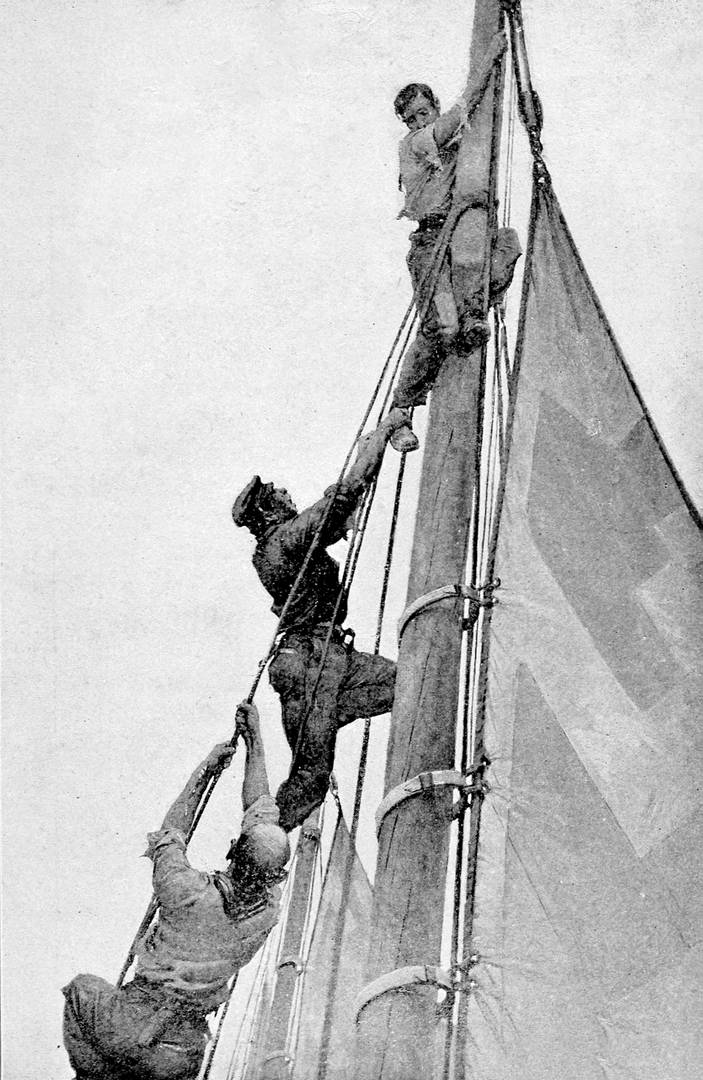Прошлая статья была посвящена введению читателя в историю написания Достоевским романа «Бесы», а также рассмотрению главного героя — Николая Всеволодовича Ставрогина. Символический ряд, окружающий Ставрогина, и его образ позволяют оценивать этого персонажа как демонического, даже допустить его сравнение с Антихристом.
Однако этот символизм не должен сбивать читателя с толку. Важно помнить, для какого общества писал Достоевский. Через этот символизм Федор Михайлович пытался донести до читателя традиционного общества проблему психологии личности, живущей в эпоху угасания духовных ценностей, разочарованности в идеалах, в эпоху ломящегося в двери «голого чистогана».
Приведем несколько отдаленный, на первый взгляд, пример из романа Джека Лондона «Морской волк». Лондон — не Достоевский; он писатель умеренно левых взглядов, «светский» и, можно сказать, бытописатель. Да и творил он много позже на Западе, к этому времени в значительной степени отошедшем от религиозного взгляда на мир. Однако рассматривал схожую проблематику — проблему личности. Итак, в «Морском волке» антагонист произведения, капитан Волк Ларсен, исповедующий социал-дарвинистскую философию, восторгается образом Люцифера в поэме Мильтона «Потерянный рай», и комментирует его так: «Он не хотел служить богу. Он ничему не хотел служить. Он не был безногой фигурой вроде той, что украшает нос моей шхуны. Он стоял на своих ногах. Это была личность! ».
Характеристика, которую Ларсен дает Люциферу, очень хорошо подходит и Ставрогину. Подобно Люциферу, он не захотел служить Богу, который, как заповедал Христос, «есть любовь»: Ставрогин не любит ближних, вообще никого не любит. Но не захотел он служить и никакой другой идее.
Это важный момент: вера в какую-либо идею предполагает особый тип любви к ней, это своего рода безответная, интенциональная любовь в скрытое за дымкой времени будущее. А Ставрогин ни во что не верит, он, как Люцифер Ларсена, «ничему не захотел служить». Для него идеи — инструменты для манипулирования чужими жизнями ради собственной прихоти, из озорства, как мы подробно рассмотрели в прошлой части статьи.
Очень емкую и при этом парадоксальную характеристику дал Ставрогину выдающийся русский философ и исследователь творчества Достоевского Николай Бердяев, сказав, что тот «не мог и не хотел сделать выбора между Христом и Антихристом, Богочеловеком и человекобогом, он утверждал и того и другого разом… Это личность, потерявшая границы, и от безмерного утверждения себя потерявшая себя».
И тут возникает вопрос, который возвращает нас к поставленной в начале нашего пути проблеме проживания жизни под масками. Как может личность, потерявшая себя (то есть самое себя, свою сущность) от утверждения себя, продолжать являться личностью, то есть, обладающим чем-то личным (сущностью)? Проще говоря, личность, посвящающая жизнь самоутверждению, движется в итоге к тому, что можно назвать «нечто», или к «ничто»?
Для начала разберемся с самим понятием «личности». Определений того, что такое «личность» существует много (в психологии, философии, социальном или историческом ракурсе и т. д.). Не перечисляя их все, можно, не согрешив против истины, сказать, что личности всегда присущ комплекс идей и ценностей, морально-нравственных и этических установок. И напротив, человек, лишенный идеи — о Боге, Родине, любимом человеке, каких-либо ценностей и идеалов, это не тот, про кого мы можем сказать — «личность», то есть не тот человек, которого мы как-то можем персонифицировать (прибавив, в зависимости от нашего отношения к этим качествам «сильная», «великая», «зловещая» и т. д.).
И наоборот, какие бы ценности не исповедовал человек, если он готов отказаться от них в любой момент, отказаться от того, кого любит, или махнуть рукой на то, что еще вчера считал «злом» мы говорим, что он «слабый», не отстоял свою правду. В психологии такое состояние души зовется «психической анестезией» или «деперсонализацией» (что в переводе с латыни значит «отсутствие личности»: de — отсутствие, persona — лицо).
Очевидно, что потерявшая себя личность, не «цементированная» каким-либо набором норм (хоть идеи народа-богоносца, хоть ницшеанского человекобога) то есть обезличенная, такая, которой мы не можем дать никакой характеристики, очевидно является чем-то иным. Как гласит народная поговорка «Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Ни Богдан, ни Селифан, а кто тогда? Мы не можем сказать, кто. И в этом смысле личность Ставрогина — постмодернична, в чем-то подобна ризоме. Которая, согласно авторам этого понятия, философам-постмодернистам Жилю Делезу и Феликсу Гваттари, «не подчиняется никакой структурной или порождающей модели. Она чуждается самой мысли о генетической оси как глубинной структуре». Ризома лишена центрирующего принципа, какой-либо идеи или ценностей.
Неудивителен поэтому ускользающий характер Ставрогина, его отсутствующее присутствие на страницах романа, когда он, не направляя фабулы сюжета, тем не менее связан со всеми героями, и всё, что делается другими, делается в той или иной связи с его фигурой. Тут, кстати, обращает на себя внимание одна из кульминационных сцен романа — карнавал в доме губернаторши, в котором принимают участие многочисленные подопечные Ставрогина. Рассмотрение сцены карнавала, участники которого надевают чужие личины, как бы перестают быть собой, заслуживает отдельного исследования, поэтому мы ограничимся указанием на то, что образ Ставрогина — явно предвосхищает человека постмодерна, постчеловека.
Ю. В. Бялый в своей статье «Концептуализация Не-Бытия. Концепты постмодернизма. Часть V. Неукорененность. Номадология и ризома» характеризует последствия действий этой ризомной личности следующим образом: «Если встреченное изначально находится у тебя под подозрением, то оно, впитывая в себя подозрение, само превращается в зыбкость. А обнаружив, что оно является таковой, ты окончательно разочаровываешься. И либо погружаешься в зыбкость. Либо, странствуя в поисках незыбкого, насыщаешь своим сомнением и подозрением всё встреченное, — и тем самым делаешь его зыбким».
С этой ситуацией мы сталкиваемся и при рассмотрении образа Ставрогина. Не верящий ни во что Николай Всеволодович сеет вокруг себя ложь, подобно сатане, становится проводником его воли. Не случайно ведь и в Евангелии от Иоанна Иисус, говоря о сатане, дает ему емкую характеристику «лжец и отец лжи», который «не устоял в истине, ибо нет в нем истины».
Напомним, также и строки Евангелия от Матфея: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф.16.21-23). Понятно, что Иисус вовсе не считает своего первого ученика — сатаной, а указывает на то, что, поддавшись соблазну сам и соблазняя Иисуса на отказ от своей миссии, тот становится проводником зла.
Итак, внушая окружающим те или иные идеи и чувства, а затем последовательно их разбивая, такая личность сеет разочарование этих людей. Во-первых, непосредственно в этих идеях как таковых; во-вторых, в ближних («я ему доверился, а он так со мной поступил!»); а в-третьих, конечно же, в себе. Впустив беса лжи внутрь себя, пойдя со злом на компромисс, Ставрогин начинает плодить бесов вокруг, делать все «зыбким» — все по вышеописанной схеме. Так, главный подручный Ставрогина, Верховенский, прямо признается ему, что он исполняет роль «шута» при Ставрогине, который не хочет, чтобы его «главная половина» — Ставрогин — сам был шутом.
Таким образом становится яснее и само название романа и взятый к нему эпиграф: «Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». Да и сам Ставрогин утверждает, про себя, что «иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и «разумное», «в разных лицах и в разных характерах, но одно и то же», и всегда злится.
Разрушительность для себя и окружающих лживой, ризомной личности, сменяющей одну личину за другой, описал, рассматривая древнейший архетип трикстера, основоположник школы аналитической психологии Карл Юнг: «Как только сознание оказывается в критической или сомнительной ситуации, выясняется, что тень не превратилась в ничто: она лишь ждет подходящего момента, чтобы вновь появиться в виде проекции на ближнего. Если этот трюк удается, между людьми мгновенно создается тот мир первозданной тьмы, где может произойти все, что характерно для трикстера (хаос — ИА Красная Весна) — даже на высшем уровне цивилизации».
Характерными примерами трикстера, является, например, скандинавский «антибог», бог-предатель и бог-шут Локи, или греческий Гермес, постоянно попадающие из-за жажды «поозорничать» в курьезные ситуации, которые при этом отзываются мировыми катастрофами (в случае Локи, например, концом света, Рагнарёком).
Итак, персонаж Ставрогина оказывается в некотором смысле художественным образом, адресующим к универсальной проблематике — мифологической, психологической и актуально-политической, отсылает нас как к древнему архетипу трикстера, так и к ризоме. В его структуре «ничто», продуцирующее самое себя, а значит — разрушение.
Дав срез проблемы «жизни в маске», мы обязаны попытаться дать ответ на вопрос: что же такому человеку делать? Как не проиграть битву за свою личность и не стать проводником зла в мир? Списание человека со счетов, даже столь разрушительного типа, противоречит как христианскому гуманизму любви к ближнему и искупления, так и учению апокатастасиса (о всеобщем спасении), исповедуемому и проповедуемому Достоевским. Ведь даже для демонического Верховенского, которому он не приписывает ни одной положительной черты (Ставрогин, в отличие от него, всё же смел, аристократичен, не лишен рефлексии), Достоевский оставляет надежду для спасения. Даже он не лишен любви — любви к нему его отца, Степана Трофимовича Верховенского.
Вероятно, свой окончательный и жестокий вердикт Бердяев выносил, поскольку его статья «Ставрогин», процитированная нами выше, была написана в 1914 году.
Отвечая на возможный вопрос читателя «Причем тут год?», уточним, что ключевой главой всего романа, которая была изъята из публикации Катковым и впервые напечатана только в 1923 году, стала глава «У Тихона», где Ставрогин приходит на исповедь к старцу. Поскольку глава в печать не вышла, образ старца Тихона позднее был воплощен в образе старца Зосимы в «Братьях Карамазовых». А роман «Бесы» в течение более полувека воспринимался, таким образом, в искаженном и памфлетичном свете.
Излишне доказывать, что для верующего Достоевского тема исповеди была ключевой в его творчестве. Исповедь — отправная точка для преображения человека. Так, свой путь к преображению начинает с исповеди Раскольников в «Преступлении и наказании». Исповедуясь, человек отрекается от совершенного им зла, проклинает его, начинает новую жизнь.
В эту главу Достоевский вложил порыв Ставрогина к началу новой жизни. Психотерапевт Виктор Франкл пишет, что «потребность и вопрос о смысле жизни возникает именно тогда, когда человеку живется хуже некуда». Это ведь общее свойство жизни: вспомним, что дышать нам хочется сильнее всего, когда воздуха не хватает, а когда его в достатке, наше дыхание машинально и не осознается нами.
И вот, мы видим в Ставрогине страшное мучение, желание выбраться из замкнутого круга, оно стихийное, неосознаваемое. В Ставрогине впервые за весь роман прорывается искренность. Достоевский блестяще показал спонтанность этого порыва: «Знаете, я вас очень люблю… — Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он „люблю“ тоже чуть не в припадке, по крайней мере неожиданно для себя самого».
Одновременно с этим, в лице Тихона Ставрогин впервые за весь роман сталкивается с человеком, который верен своей идее. И Ставрогин оказывается перед ним безоружным: пустота пасует перед бытием, безыдейность перед идеей, ризома перед структурой. Ставрогин впервые за весь роман теряет контроль над собой и из него вырывается «люблю», но он не понимает, как и почему это происходит (а финал беседы он завершает брошенным Тихону: «проклятый психолог!»).
По его просьбе Тихон читает ему строки из «Апокалипсиса» Иоанна Богослова: «знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок, и беден, и нищ, и слеп, и наг…».
В этих поразительных по глубине и емкости словах Достоевский раскрывает проблему утраты идеального, крушения личности. Человек «не холодный» и «не горячий», безликий, лишен главного — радости любви к кому-либо или чему-либо — «изблюю тебя из уст моих». Такой человек, по словам Тихона, «никакой веры не имеет» (включая и атеизм — А.С.), «кроме дурного страха».
Однако, исповедь — лишь первый шаг к новой жизни. Достоевский предлагает герою выход: «…подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если б и не выдержали, всё равно вам первоначальную жертву сочтет господь. Всё сочтется: ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже несомненно великое… Вам не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте только послушником тайным, неявным, можно так, что и совсем в свете живя…»
По сути Тихон говорит Ставрогину, что тот должен жить по-христиански, но в свете. Как это осуществить?
На первый взгляд возлюбить ближнего, кажется, просто. Большинство из нас на вопрос, любит ли ближнего, ответит, что, конечно, любит своих родных, друзей. Но в момент суровых испытаний, того, что Юнг называет «критической и сомнительной ситуацией», человеку часто свойственно как раз забывать о ближних, концентрироваться на себе. И тут его вера, его идеалы, подвергаются суровому испытанию. Например, при потере члена семьи.
Прошел через это испытание и Достоевский. Так, на смерть своей первой жены он писал другу молодости, барону Александру Врангелю: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. „Я“ препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек».
И на первый взгляд может показаться, что выход этот носит опять-таки сугубо религиозный, христианский характер. Но напомним читателю опыт Франкла, прошедшего нацистские концлагеря, где человек подвергался уничтожению не только как биологический объект, но и, в первую очередь, как личность. То есть тот процесс, который в наши дни идет «мягко», по мере обесценивания и изъятия из жизни общества идеалов, в лагерях смерти нацистами был форсирован.
Чего только стоит назначение «смотрящих» (капо) за заключенными-евреями из рядов тех же евреев. В концлагеря попадали люди разного вероисповедания. Но Франкл свидетельствует, что именно любовь к ближнему стала фундаментом, не позволившим распасться личности многих его товарищей. И речь не только о взаимовыручке в условиях заключения. Так, наиболее впечатляющим примером, приводимым Франклом, является любовь заключенного к его матери, судьба которой ему была неизвестна, но к которой он страстно хотел вернуться.
Франкл пишет, что любовь к ближнему — «это способность понять человека в его сути, в его конкретности, в его уникальности и неповторимости, однако понять в нем не только его суть и конкретность, но и его ценность, его необходимость». Вопрос: ценность для кого? Понятно, что для любящего. А чтобы ее осознать, нужно, по меньшей мере, снять маску перед самим собой, трезво взглянуть на себя без фальши, заглянуть внутрь себя; то, что Тихон называет «простить себе». Ведь не случайно Франкл говорит о сути, конкретности, ценности и необходимости другого человека, что называется, «через запятую»: не понимая ценности и необходимости «ближнего» для тебя, ты не можешь пойти по пути «деятельной любви».
Компасом в обнаружении уникального в другом человеке, по Франклу, является совесть: «Подобно тому, как совесть открывает „то, что надо“, так и любовь открывает единственное, что возможно… Только совесть может как бы согласовать „вечный“ всеобщий моральный закон с конкретной ситуацией конкретного человека».
Проще говоря: другой (или «ближний») должен быть дорог, но не как нечто абстрактное, туманное, а в его конкретной данности, уникальности, что, согласимся, далеко не так уж просто, и требует принять, как равных, «и мытаря, и разбойника, и блудницу»!
А значит, нужно совершить подвиг самоотдачи, наступить на самолюбие, отказаться от самоутверждения. Вот тогда совершается личностный поступок. Мы говорим о человеке, пошедшем на отказ от «своего» ради чужого — «сильная личность».
Итак, решение вопроса о «компромиссе» со злом, опустошающим человеческую личность, лишающим ее смысла и побуждающим его к ношению масок, разрешается непросто, а требует большой внутренней сосредоточенности и самоотдачи.
Достоевский не имел возможности раскрыть эту проблематику в «Бесах»: роман печатался поглавно, и когда стало ясно, что цензура главу «У Тихона» не пропустит, финал романа пришлось изменить. Ставрогин оказался обречен на гибель. Но всё же, Достоевский подсказывает этот путь словами старца Зосимы в романе, ставшим для писателя последним — в «Братьях Карамазовых»:
«Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная — это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука».
Личность оформляется и укрепляется в процессе расширения и освоения Бытия, в первую очередь человеческого Бытия и отвоевывания территории у Не-Бытия (огрубляя, Жизнь вечная есть вечное Бытие). В пределе это можно было бы выразить краткой формулой: «Я живу, чтобы жил ближний, которым является каждый». И, как мы видим, эта битва происходит как в пространстве микрокосма (человеческой личности, что и раскрыл Достоевский), так и макрокосма (общества, планеты, вселенной).
Напротив, надевая маску, то есть заранее отказываясь от принципа «деятельной любви», подозревая ближнего, человек превращает все связи вокруг себя в указанную «зыбкость». И тогда его существование становится парадоксальным: он живет в обществе, и, в то же время, отчужден от общества, одинок. Маркс называл такую форму жизни «превращенной формой», не соответствующей реальному содержанию. Тем самым, личность редуцирует себя до роли «фортепианной клавиши» (пользуясь обозначением Подпольного героя Достоевского), функции. Функциональность, «успешность», «популярность», нажитое имущество становятся критериями его оценки окружающими.
А это — опасная роль, в которой личность в какой-то момент вдруг становится не нужна, как только в ней отпадает производственная, имущественная или иная, не интересующаяся его человеческой сущностью, необходимость. А победив одного человека, этот принцип начинает распространяться на мир вокруг.
Достоевский актуализировал вопрос о цельной личности, стремящейся к благу других, как источнике бытия, то есть истории. И в романе «Бесы» наглядно продемонстрировал, как проблема «зыбкой» личности, по сути отсутствующей личности, из внутренней психологической катастрофы отдельного человека перекидывается вовне. В других своих романах он неоднократно указывал на то, что как общество ни организуй, не решив эту проблему, любая организация становится «паллиативным» средством.
Сегодня развитие науки и техники идет явно обгоняющими гуманитарный, культурный, психологический рост человека темпами. И в воздухе висят вопросы: «А что такое личность в эту эпоху? Она вообще возможна? И, если да, то к чему она должна быть устремлена, на что должна опираться?» И впору повнимательней вчитаться в романы Достоевского, поставить эти болезненные вопросы в первую очередь самому себе, как ставил их перед собой и своими современниками великий русский писатель.