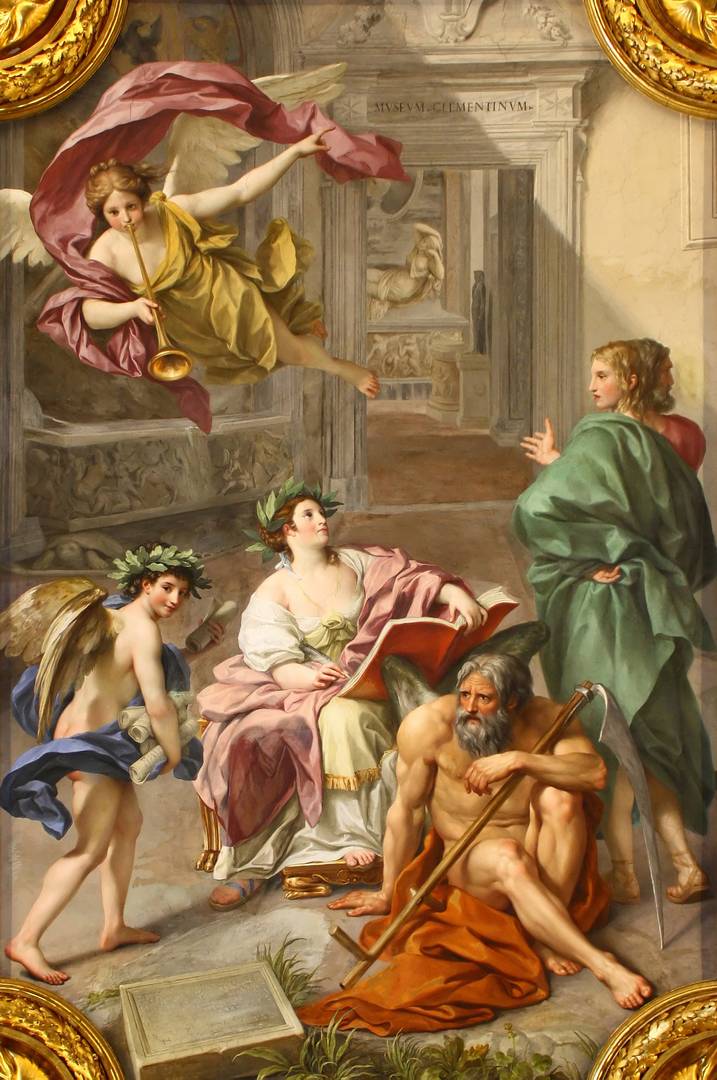
Когда знакомишься по документам с действиями большевиков в преддверии Великой Октябрьской социалистической революции (я имею в виду под этим преддверием период с марта по ноябрь 1917 года), то становится ясно, что никакой Великой Октябрьской социалистической революции без Ленина не произошло бы. А значит, и история человечества в XX столетии была бы без Ленина другой.
Можно сколько угодно спорить по поводу того, какова действительная позиция марксизма-ленинизма в вопросе о роли личности в истории. И возможно, что теоретическая позиция в этом вопросе и впрямь заключалась в том, что роль личности не имеет определяющего значения. Повторяю, возможно, классический марксизм-ленинизм так определяет роль личности. А возможно, нет. И это открытый вопрос. Потому что ни одна страница марксистско-ленинской теории не была обсуждена до конца в советский период, а в постсоветский стало не до того.
Если я начну сейчас разбираться с этим аспектом марксистско-ленинского учения, то возникнет теоретический крен, который в данном случае в большей степени повредит, чем поможет. Так что обсуждать вопрос о действительном отношении марксизма-ленинизма к роли личности в истории мы будем в другой раз. А здесь мы просто признаем, что вне зависимости от того, чему учит нас ленинизм, а также марксизм, роль Ленина в истории имеет не просто большое, а решающее значение.
Не было бы Ленина, додумался бы кто-то во Временном правительстве до того, чтобы обнулить этот фактор так, как потом его пыталась обнулить Фанни Каплан, удалось бы это какой-нибудь более умелой, чем Каплан, агентессе Временного правительства, — и не было бы Октябрьской революции, и вся история XX века была бы другой.
Как в действительности относится марксистско-ленинская теория к роли личности — это одно. А какую роль сыграла личность Ленина — это другое.
Масштаб личности Ленина определил русскую судьбу. Да-да, всего лишь масштаб одной личности. Ленин был единственным из большевиков, готовым в предреволюционный период верно оценивать ситуацию, предлагать точные и оригинальные ходы. Ленин ни разу не ошибся ни в оценке ситуации, ни в том, что надо делать, сообразуясь с этой оценкой. Ошибались все, кто был гораздо больше, так сказать, в материале. Кто не находился в долговременной эмиграции, например. Кто в большей степени был связан с практической революционной деятельностью, осуществлявшейся на территории России. Не ошибался в оценке происходящего только Ленин. И он один предлагал правильные решения.
Не было бы Ленина — никто бы не стал обсуждать марксизм и коммунизм. Потому что именно Ленин сделал Маркса тем, кем он стал. Точнее, Маркса сделала тем, кем он стал, Великая Октябрьская революция, создание Советского государства, исторические деяния этого государства. А также то, что это государство сделало Маркса идеологическим вождем осуществленных государством деяний. И этим — в силу величия деяний — вознесло Маркса на невероятную высоту. Без такого вознесения Маркс был бы очень уважаемым философом и экономистом — только-то и всего.
Об особой роли Ленина, о его невероятной влиятельности, которая имела чуть ли не гипнотический характер, говорили старшие товарищи Ленина по РСДРП, в том числе и меньшевики, которые Ленина терпеть не могли. Им можно верить, они никак не сопричастны дешевой апологетике великого вождя, затеянной после его смерти начетчиками от большевизма.
Кстати, Сталин к такой дешевой апологетике не столь уж и тяготел. Он слишком любил и ценил Ленина. А дешевая апологетика началась тогда, когда ни о какой любви уже речи не было. Но меньшевики, говорившие об уникальности Ленина, вообще Ленина не любили. И потому у них есть алиби по части несопричастности к этой самой апологетике.
Итак, роль Ленина в истории вообще и особенно в том, что касается взятия власти большевиками в ноябре 1917 года и удержания ими власти впоследствии, даже не огромна, а колоссальна.
И если мы читаем не только теоретические тексты, но и ту книгу истории, которая написана кровью героев и мучеников, то в этой книге зафиксировано то, что мне сейчас необходимо настойчиво подчеркнуть. Русская коммунистическая революция и созданная ею государственность, а значит, и весь актуальный коммунизм в его марксистско-ленинском варианте (что он такое без русской революции?) в качестве своего абсолютного фокуса, своего стержня, своей точки сборки имеет личность Ленина.
Нет этой личности — нет почти ничего. Это не значит, что Ленин сделал революцию по щучьему велению. Не было бы партии, которую Ленин с невероятной самоотверженностью и талантом создавал, не было бы исторического деяния. Но никакая партия без Ленина не отворила бы дверь в новую историческую эпоху, она же — эпоха, начавшаяся с известного всем залпа «Авроры».
Нет исторического марксизма-ленинизма без большевизма и СССР. И нет большевизма и СССР без Ленина. А Ленина — в той или иной мере — создал брат Саша. А брата Сашу как трагическую фигуру создала в той или иной степени встреча с Салтыковым-Щедриным. А Салтыков-Щедрин в тот трагический момент, когда он встретился с Александром Ульяновым, — это абсолютный концентрат мытарств и гениальности великого русского литературно-философско-публицистического поиска. Того поиска, который создал не только величайшую мировую литературу, но и великое красное советское государство с его историческими деяниями.
С гениальным наивным и спонтанным юношеским высокомерием, лишенным всяческой позы, Александр Ульянов говорит, что «среди русского народа всегда найдется десяток людей».
К этой фразе можно отнестись по-разному. Можно пожать плечами, можно романтически вздохнуть и даже заплакать… И, разумеется, можно порассуждать на тему о смутьянах-террористах, загубивших матушку-Россию. Но все эти типы отношений предполагают неспособность уловить великую простоту этой наивной фразы. В ней есть что-то от юродства и святости, а что-то — от казацкой вольницы с ее Разиным и Пугачевым. Она несет в себе огромный духовный заряд. И абсолютную веру в то, что десяток таких людей, а может, и один человек, могут всё. Но ведь и Белинский верил в это. Он считал, что он может один создать величайшую мировую литературу, вытаскивая из какого-то метафизического мешка, находящегося почему-то в его монопольном владении, одного гения за другим. И он ведь не только считал, что может, он мог. Он совершил то, на что безумным образом замахнулся. А безумец, который совершает то, на что замахивается, — не безумец, а гений, делающий историю.
Нить русского большевизма тянется от Белинского к Салтыкову-Щедрину, оттуда — к Александру Ульянову, от Саши — к Ленину. Бердяев не уловил эту нить. Потому что не было в нем даже минимальной сопричастности духу того, что он попытался исследовать. А без такой сопричастности можно резонерствовать по поводу чужого величия, можно это величие искусно приуменьшать, но нельзя раскрыть смысл, не став этому смыслу по-настоящему сопричастным. Без этого любое исследование таких вещей — академическое резонерство с той или иной политической подоплекой.
Правоту моей матери, утверждавшей, что вся тайна шекспировского «Гамлета» — в том, как сильно Гамлет любил отца, я понял уже после того, как поставил «Гамлета» на сцене. Не хочу эту правоту абсолютизировать, но вновь я к ней вернулся, размышляя о Ленине.
Гамлет сильно любил своего отца, он любил его особой любовью, он был способен на такую безмерную любовь — и это породило всё остальное, включая восстановление порванной цепи времен.
Ленин сильно любил брата, он любил его особой любовью, на которую оказался способен, и которая в каком-то смысле была одновременно сдержанной и безмерной. И это породило всё остальное, включая опять же восстановление порванной цепи времен. Вот только произошло это не в великом литературном тексте и не на сцене, где этот текст поставлен, а в реальности. Сценой для Ленина стал земной шар. Об этом, кстати, предупреждал Шекспир, говоря, что весь мир — театр. Как мне представляется, Шекспир, говоря об этом, видел исторические подмостки, на которых обычное лицедейство превращается в историческую мистерию.
Кстати, каждый раз, когда это происходит с древнейших времен и по сию пору, герои начинают как-то по-особому говорить. И тут что Юлий Цезарь, что Жанна д’Арк, что Кромвель, что Робеспьер, Дантон или Марат, что Маркс, что Ленин. Перечитайте (а лучше выучите наизусть) хотя бы первую страницу «Манифеста Коммунистической партии». Так может писать только наследник пророка Исайи или Иоанна Богослова. Прочитайте ленинское «Чествуя Герцена», а лучше опять-таки выучите наизусть. И тут опять всё то же самое. Невольно возникает мысль о том, что в такие исторические минуты за человека начинает говорить нечто большее. Что оно говорит за художника в момент особого вдохновения. И оно же говорит за политика в момент свершения по-настоящему великого деяния. А в остальные моменты говорит сам политик. И сразу видно, что создаваемые им тексты перестают дышать особой надысторической судьбоносностью.
Лениным написано несколько очень хороших политических сочинений. Таких, как «Развитие капитализма в России» и «Империализм как высшая стадия капитализма». Знаменитую ленинскую книгу «Материализм и эмпириокритицизм» лично я считаю достаточно слабым философским сочинением. Скажем так, раз в сто более слабым, чем названные мною выше работы. Но не в этом дело. Ленин писал не пером, хотя отрекомендовывался в анкетах как профессиональный политический журналист. Ленин писал мечтой, кровью, слезами, страданием некий текст на теле истории. И написав его, предлагал человечеству разыграть написанное на исторических подмостках.
Не в текстах сила Ленина. Но иногда некая сила прорывается в тексте. То же самое — с Марксом. Он больше, чем Ленин, углублен в стихию текстуальности. Но ему в ней так же тесно, как Ленину. Вырваться на исторические просторы Марксу не удалось. Но вырваться из обычной текстуальности в пророческую он несколько раз смог. И в «Манифесте», и в последующем.
А такие вырывания за рамки — очевидное свидетельство сопричастности духу, который больше, чем ты, который приходит к тебе и который хочет разговаривать через тебя. В момент, когда Александр Ульянов пожал руку Салтыкова-Щедрина, некто пришел к нему и сказал: «Теперь мы вместе».
И невозможно на рациональном уровне раскрыть сказанное о том, что мы вместе. Ведь не потому же этот некто пришел к Саше Ульянову, чтобы тот реализовал, к примеру, свое террористическое начинание. Ничего суперсущественного такая реализация бы не дала. А некто приходит только ради суперсущественного. Так почему бы не предположить (а утверждать тут ничего по определению нельзя), что некто пришел к Александру Ульянову не для того, чтобы тот убил Александра III, а для того, чтобы он был повешен, а младший брат сделал то, что он сделал.
Корчась в муках, сознавая свою историческую исчерпанность, отрицая эту исчерпанность с последней и окончательной яростностью, Россия кидала этого некто как дар и проклятье то Белинскому, то Салтыкову-Щедрину, то Ленину. А те пытались выйти за пределы человеческих возможностей. И выходили за эти пределы. И соединялась великая тоска с великой надеждой. Так создавалась великая русская литература. И так же создавалась великая русская революция.
Я не собираюсь прослеживать весь путь Ленина и даже подробно обсуждать его наиболее существенные работы. Но я прослежу какие-то вехи начальной ленинской биографии с тем, чтобы некто мог не то чтобы даже сказать, а прошептать или намекнуть постсоветским людям о том, что он и впрямь существует.
В своих воспоминаниях о Ленине Надежда Константиновна Крупская не только пишет об особом отношении Ленина к своему старшему брату Саше и о знакомстве Ленина с трусливой подлостью так называемого приличного общества, которое специфически повело себя с Салтыковым-Щедриным, возмутив брата Сашу и побудив его к определенным деяниям, а потом столь же специфически повело себя с семьей брата Саши, родив в Ленине определенные и далекоидущие чувства. Крупская пишет и о другом.
Вспоминая о минусинской ссылке 1898–1901 годов, Крупская пишет:
«По вечерам Владимир Ильич обычно читал книжки по философии — Гегеля, Канта, французских материалистов, а когда очень устанет — Пушкина, Лермонтова, Некрасова.
Когда Владимир Ильич впервые появился в Питере, и я его знала только по рассказам, слышала я от Степана Ивановича Радченко: Владимир Ильич только серьезные книжки читает, в жизнь не прочел ни одного романа. Я подивилась; потом, когда мы познакомились ближе с Владимиром Ильичем, как-то ни разу об этом не заходил у нас разговор, и только в Сибири я узнала, что всё это чистая легенда. Владимир Ильич не только читал, но много раз перечитывал Тургенева, Л. Толстого, «Что делать?» Чернышевского, вообще прекрасно знал и любил классиков. Потом, когда большевики стали у власти, он поставил Госиздату задачу — переиздание в дешевых выпусках классиков. В альбоме Владимира Ильича, кроме карточек родных и старых каторжан, были карточки Золя, Герцена и несколько карточек Чернышевского».
Дело тут не в том, что Ленин был высокообразованным и высококультурным человеком. Иначе и не могло быть в случае, если гимназия закончена с отличием и в ней более всего проявлены гуманитарные способности. Тем более это не может быть, если после гимназии наступает пора университетов.
В том, что пишет Крупская, имеет место не только констатация (что читал), но и легко улавливаемое наличие определенного духовного запроса. Такие люди, как Ленин, способные посвятить себя чему-то одному до конца (а Ленин после смерти Саши одномоментно посвятил всё свое земное существование только делу осуществления революции), не отвлекаются в сторону без крайней необходимости. Они не нуждаются в переключении с основного дела на другое. Для них культура — это дополнительный источник энергии. Когда почему-либо не хватает прямого потока энергии, доставляемого таким людям их основной революционной деятельностью, дефицит энергии восполняется путем взаимодействия с культурой. Она для таких людей является чем-то вроде электрической розетки, к которой можно подключиться. Или чем-то вроде портала, через который можно куда-то выйти. В каком-то смысле она становится для таких людей чем-то вроде секретной комнаты, в которую можно зайти, чтобы пообщаться с тем некто, который постоянно ощущается тобою в виде незримого соучастника деятельности. Но с которым иногда надо встретиться напрямую, выйти на некое духовное рандеву.
Крупская говорит о том, что Ленин ценил Чернышевского. Обычно революционеры, ценившие Чернышевского (а одним из таких его ценителей был, между прочим, Карл Маркс), по многу раз перечитывали знаменитое «Что делать?» Но у Чернышевского есть тексты, более глубокие и трагические, нежели это самое «Что делать?». Главным из таких текстов, безусловно, является статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». В этой статье Чернышевский обретает ту пророческую силу, которой он начисто лишен в своем знаменитом «Что делать?»
Многие русские революционеры определялись окончательно после молитвенного прочтения этого текста. Читал ли его подобным образом Ленин — неизвестно. Но поскольку Чернышевского он любил и ценил, поскольку был очень образованным человеком и искал в культуре не отдохновение, а дарование необходимой духовной силы, то ознакомление читателя с этим текстом считаю более чем существенным. Потому что помимо смысла в тексте есть и незримое присутствие того трагического духа, который явно водительствовал во всем, что после долгих мытарств обернулось грандиозным историческим свершением, имя которому — Великий Октябрь.
(Продолжение следует.)