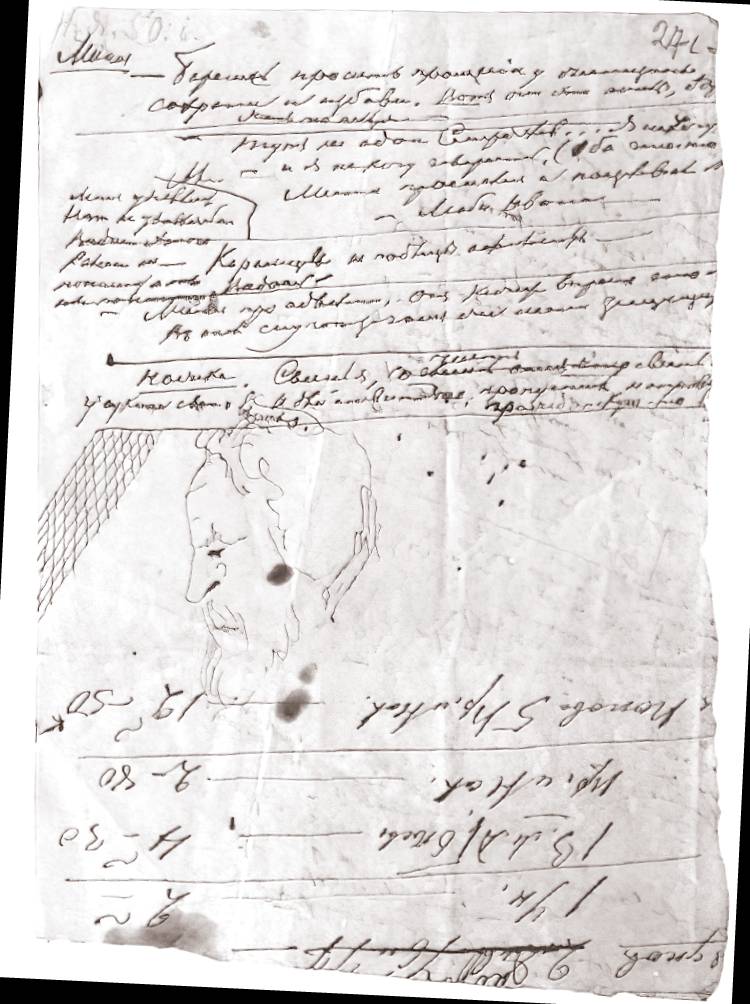К 200-летию со дня рождения писателя
Часто можно встретить оценку Федора Михайловича Достоевского как писателя-реалиста. Но Достоевский — отнюдь не бытописатель. Читая его романы, мы невольно ловим себя на мысли, что его персонажи как бы «ничем не занимаются» в смысле какой-либо ежедневной деятельности, работы. Всё полотно его произведений — это бесчисленные диалоги, рефлексии, скандалы, конфликты, исповеди, откровения.
Достоевский — реалист необычного рода, его интересует иная сторона бытия человека. Как никто другой в русской литературе, он добрался до самых крайних пределов человеческой личности, или, выражаясь языком религиозным, человеческих духа и души. Внутреннее содержание, личность, душа, находятся в связи с окружающей реальностью, воздействуют на нее. И писатель пристально наблюдает за этим воздействием.
Достоевского мало интересует внешняя сторона быта его героев. В тот момент, когда мы погружаемся в огненный вихрь страстей персонажей, мы обнаруживаем, что космос внешний — комнаты, подворотни, отели, дворцы — лишь фон для проявления космоса внутреннего, причем часто — фон парадоксальный. Писатель достигает этого эффекта за счет предъявления читателю двойственности внутреннего космоса, где находится место и аду, и раю, и часто у того, кто живет в раю, в душе оказывается ад, и наоборот. Н. Бердяев в работе «Миросозерцание Достоевского» называет это «диалектикой души». М. Бахтин в «Проблемах творчества Достоевского» — «диалогическим построением романа».
Достоевского, в ранние годы тяготевшего к классическому гуманизму Просвещения, считавшего необходимым создание для человека определенных внешних рамок, призванных обуздывать его грехи и направлять добродетели, мучает вопрос: каким образом в самых прекрасных условиях могут появляться самые ужасные чудовища, и, напротив, откуда в чудовищных условиях возникают люди с ангельской душой? Об этой странности он пишет брату во время пребывания на каторге, где в человеческом аду он встречает «характеры глубокие, сильные, прекрасные… И не один, не два, а несколько… Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны».
Творчество Достоевского в посткаторжный период является антропософией, он сосредотачивается на изучении глубин человеческого космоса. Достоевский отторгает прежний гуманизм, вытеснивший Бога и дьявола в непознаваемые дали. Человек Достоевского не добр и не зол, но в нем одновременно есть и добро, и зло. И мучительный выбор между добром и злом, позволяющий человеку отвечать самому себе на самые предельные вопросы, — это новый гуманизм, который и предлагает читателю Достоевский. Причем ключевым тут является то, что данный выбор должен быть не навязанным извне, но свободным, пусть и болезненным. И в этом писатель, безусловно, следует христианской традиции. Для героев Достоевского выбор всегда болезнен. Но лишь он способен сдвинуть человека из стазиса, в котором он пребывает как объект чужих страстей и поступков, в область обретения субъектности. Наиболее яркого художественного воплощения эта идея достигнет в легенде о Великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых». «Свобода их веры Тебе была дороже всего», — говорит Христу старик-инквизитор.
Одним из первых произведений Достоевского, где данная проблематика становится основной, является роман «Униженные и оскорбленные». Сам автор считал этот свой роман неудачным, фельетонным, робко соглашаясь с критиками в том, что в нем много «персонажей-кукол», много шаблонности. Однако уже здесь Достоевский делает первый шаг на пути исследования предельных глубин души человека. И важнейшей в этом исследовании оказывается проблема любви — самого сильного человеческого чувства.
Трагическую любовь писатель пережил лично. За несколько лет до написания «Униженных и оскорбленных» у Достоевского начался серьезный роман с Марией Дмитриевной Исаевой. Однако на пути к браку встало много препятствий: бедность писателя, его пребывание в ссылке в другом городе, появление кавалера у Исаевой.
Достоевский страшно переживал происходившее. Перед этим у него было пророческое предчувствие большой перемены в жизни: «Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто всё еще болен теперь, и кажется мне, что со мною в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то, и что будет что-нибудь, может быть, тихое и ясное, может быть, грозное, но, во всяком случае, неизбежное. Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная».
Чувство разлуки, невозможности соединиться с любимой переполняло писателя, он стал задумываться о самоубийстве. Барон Александр Врангель, окружной прокурор Семипалатинска, ставший другом Федора Михайловича, пишет в «Воспоминаниях», что будущий создатель «Униженных и оскорбленных» «лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой… Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил, как тень…» Когда у Исаевой появился новый ухажер, молодой учитель Вергунов, Достоевский хлопочет о пособии Исаевой за службу мужа, об определении ее сына в кадетский корпус, об устройстве Вергунова на лучшее место. «Это всё для нее, для нее одной. Хотя бы в бедности-то она не была… Если уж выйдет за него замуж, то пусть хоть бы деньги были…» — пишет он Врангелю.
И хотя в конце концов брак Достоевского с Исаевой состоялся, его нельзя было назвать счастливым. Практически сразу врачи подтвердили у Федора Михайловича эпилепсию. Он пишет брату: «Женясь, я совершенно верил докторам, которые уверяли, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменой образа жизни. Если б я наверное знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился».
Этот трагический опыт Достоевский пронес через всё свое творчество. В каждом следующем его романе, вплоть до своей смерти, автор поднимает проблему любви, самоотдачи, трагедии личной жизни героев. Так, в образе Катерины Ивановны («Преступление и наказание») мы узнаем черты Исаевой — гордой, образованной, холерической и несчастной в браке женщины. В образе Ивана Петровича из «Униженных и оскорбленных» — самого Достоевского. Однако не будем забегать вперед…
Уже в «Униженных и оскорбленных» любовь показана в самых разных своих проявлениях: это любовь между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, так называемая безответная любовь… Надо сказать, что во всех своих посткаторжных романах Достоевский задает любовные треугольники, ставит героев в ситуацию выбора, помещает их между «идеалом Мадонны» и «идеалом содомским». И в той точке, где нам кажется, что персонаж совершает, например, подвиг самоотдачи или проявляет верность себе, писатель как бы задает вопрос: «А есть ли в этом поступке добродетель? А не грех ли?»
На сюжете «Униженных и оскорбленных» стоит остановиться подробнее. В завязке романа Наташа Ихменева, с которой в близких отношениях находится рассказчик Иван Петрович, бросает отчий дом вопреки запрету отца и сбегает с любовником Алешей Валковским, сыном князя Петра Валковского. Князь, между тем, состоит в ссоре с отцом Наташи, своим бывшим управляющим. Он недоволен связью сына с его дочерью и стремится расстроить их роман, для чего оскорбляет отца Наташи, обвиняет его в растратах. Таким образом, Достоевский делает сюжет формально схожим с сюжетом «Ромео и Джульетты» Шекспира — молодые люди влюблены друг в друга, но конфликт родителей препятствует браку. И если рассматривать роман лишь с этой сюжетной точки зрения, оценивая его, так сказать, верхний слой, то он действительно выглядит «шаблонно». Однако поднятая проблематика в действительности гораздо глубже.
Наташа с самого начала идет на любовь «как на казнь», воспринимает ее с какой-то фатальной меланхолией, и далее, по ходу повествования, мы не видим в этих отношениях никакого просвета. Алеша же сразу предстает нам абсолютным инфантилом, живущим бесконечными наивными фантазиями. В дальнейшем оказывается, что он посещает других женщин, живописуя об этом сбежавшей с ним Наташе. В конце концов он влюбляется в состоятельную графиню и «на голубом глазу» предлагает Наташе жить им всем втроем и любить друг друга. Алеше не свойственна рефлексия. Его переживания по поводу страданий, которые он причиняет Наташе, мгновенно испаряются, как только она на словах его «прощает», — и вот он снова бодр, весел, и… всё продолжается по кругу.
Всё это может создать обманчивое впечатление, что Наташе свойственно чувство самопожертвования, подвига. Так, М. Бахтин в своих «Лекциях по истории русской литературы» в 1925 г., например, утверждал: «Главное в ее положении — ее отношение к Алеше. Ею движет жажда подвига, вера в спасение героя».
Разберемся, однако, действительно ли всё так просто? Действительно ли Наташа стремится совершить подвиг и «спасти» своего возлюбленного? И от чего? В чем заключается это спасение?.. Для уточнения мысли позволим себе, говоря о литературе, обратиться к формулировкам психологов XX века.
Один из крупнейших психологов XX столетия Эрих Фромм в своей работе «Иметь или быть» подчеркивает: «Любить кого-то означает тревожиться о нем, будить его к жизни, усиливать в нем желание жить… Любовь обладательная заявляет о своих правах собственности, стремится контролировать свой объект; она подавляет, сковывает и душит, то есть убивает, вместо того, чтобы оживлять».
Обратимся к тексту «Униженных и оскорбленных». В беседе с Иваном Петровичем Наташа сообщает: «Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтоб он был мой, поскорей мой, и чтоб он ни на кого не глядел, никого не знал, кроме меня, одной меня…»
То есть мы имеем дело как раз с ситуацией, которую описывает Фромм, — заявление прав собственности. Однако, возможно, всё строго наоборот, и таким образом Наташа, напротив, пытается отдать всю себя возлюбленному?
«Я ужасно любила его прощать, Ваня, знаешь что, когда он оставлял меня одну (чтобы ходить к другим барышням. — А.С.), я хожу, бывало, по комнате, мучаюсь, плачу, а сама иногда подумаю: чем виноватее он передо мной, тем ведь лучше… да!» — сообщает Наташа.
Снова обратимся к Фромму, но уже к другой его работе — «Искусство любить»: «Теория природы эгоизма подтверждается психоаналитическими данными о невротическом „бескорыстии“ — симптоме невроза, наблюдаемом у многих пациентов, обратившихся за помощью по поводу других расстройств, таких как депрессия, утомляемость, неработоспособность, неудачи в любовных отношениях. В этих случаях бескорыстие… оказывается единственной чертой характера, в которой эти люди находят себе оправдание. «Бескорыстный» человек «ничего не хочет для себя», «живет только для других», гордится тем, что не считает себя сколь-нибудь значимым… за фасадом [этого] бескорыстия скрывается замаскированный изощренный эгоцентризм».
Далее на примере такой «бескорыстной» любви матери к своим детям Фромм делает следующий вывод: подобное бескорыстие лишает тех, на кого оно направлено, самостоятельности, не позволяет им относиться к «бескорыстному» человеку критически, более того, объекты такой «любви» оказываются обязанными не разочаровывать «бескорыстного» человека, у них вырабатывается чувство вины.
Фромм проводил свои психологические исследования во второй половине XX века, Достоевский писал на столетие раньше. Поразительно, что великий русский писатель за 100 лет до Фромма дал блестящую иллюстрацию того, что тот впоследствии назовет «модусом обладания».
На примере отношений героев своего романа, Наташи и Алеши, Достоевский с огромной художественной яркостью явно вывел перед нами проблему отчуждения, а не любви. Наташа хочет, чтобы возлюбленный был «ее и только ее», — но «чьим-то» может быть только некий предмет, вещь. Человек же, как личность, не может быть чьим-то, он принадлежит самому себе и должен следовать высшему в себе. Опредмечивая Алешу, Наташа начинает смотреть на него как на вещь. Одновременно Наташа опредмечивает и себя. В рамках модели «Я люблю, если я обладаю» субъектом является не она как таковая, а она-как-обладатель-Алеши.
Фромм описывает это следующими словами: «Любящий человек превращен в человека любви, любовь превращена в богиню, в идола, на которого человек проецирует свою любовь, в этом процессе отчуждения он перестает испытывать любовь, его способность любить находит свое выражение в поклонении богине любви. Он перестает быть активным, чувствующим человеком; вместо этого он превратился в отчужденного идолопоклонника, который погибнет, если утратит контакт со своим кумиром».
Своеобразная «всепрощающая» любовь Наташи хорошо подпадает под этот тип обладания. При этом Наташа — лишь один из подобных персонажей в романе, но совсем не единственный, и не только любовь между мужчиной и женщиной может быть, по Достоевскому, столь извращенной. Так, старик Смит «любил дочь без памяти, до того, что замуж ее отдавать не хотел. <…> Ко всякому жениху ревновал, не понимал, как можно расстаться с нею».
«Любовь» Смита превратилась в свою полную противоположность. Когда его дочь, всё же сбежавшая с князем Валковским, умирала в питерских трущобах, он не готов был прийти к ней, простить ее. И ровно такую же «любовь» мы видим и в старике Ихменеве. В чем же благо такой «любви», если ты готов стерпеть гибель собственной дочери, как Ихменев и Смит, или апатично созерцать падение любимого человека, как Наташа, да, в общем-то, и Алеша? — как бы спрашивает Достоевский.
Таким образом, на примере семейств Ихменевых и Валковских-Смитов (если последнее можно назвать семейством), Достоевский поднимает перед читателем проблему любви, а через нее — и проблему человека, личности, души.
Вопрос, который Достоевский ставил перед читателями-современниками и ставит перед нами, это вопрос динамики личности, ее распада и ее становления — возможно, даже из праха, после полного распада, как в случае Раскольникова. Ложная любовь ведет к распаду личности, истинная — должна вести к ее становлению.
Но дает ли рецепт такой любви Достоевский? Вернее было бы сказать, что он его ищет в своих произведениях и дает возможность читателю искать вместе с ним. В каторжный период Достоевский обращается к чтению Евангелия, и это отражается и в его романах, персонажи которых ищут спасения в христианской любви. Словами старца Зосимы в своем последнем романе «Братья Карамазовы» писатель выражает такую любовь как «любовь деятельную», которая, по Зосиме, «работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука».
Примерами такой любви служат Соня Мармеладова, Алеша Карамазов, и, в той или иной степени, — Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных». В этой любви люди, выражаясь словами апостола Павла, «не ищут своего», а, напротив, отдают себя для ближнего. Такая любовь вообще не направлена на конкретного человека как индивидуальность, для нее «ближний» — это любой человек. Любовь эта направлена на всех и носит христианский, гуманистический характер. Не случайно писатель вложил заповедь Христа в уста старца-монаха, являющегося одним из наиболее цельных его персонажей. Христос, как мы помним, говорил: «Если вы будете любить любящих вас, какая вам польза? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».
Через христианскую любовь человек осуществляет, по Достоевскому, свой путь к Богу. Мы видим это на примере Сони Мармеладовой, которая, несмотря на нищету, голод, утрату близких людей, сохраняет внутреннюю целостность. Соня жертвует собой ради маленьких сестер и брата, жертвует она собой и ради Раскольникова, — выражаясь словами Фромма, «побуждая его к жизни». В конце концов, пройдя через все испытания, Соня соединяется с Раскольниковым. Наташа же Ихменева, «заявляющая права собственности», напротив, лишается своего возлюбленного. Схожие примеры разрушающей, эгоистической любви мы встречаем и в Настасье Филипповне («Идиот») и Катерине Ивановне («Братья Карамазовы»).
Скептик тут может развести руками и сказать: «Ну, ясно, Достоевский же верующий, вот и проецирует свою идею на романы». Однако точно такой же механизм любви описывают и психотерапевты. Создатель логотерапии Виктор Франкл в работе «Экзистенциальный анализ» разбирает пример с узником концентрационного лагеря, который, будучи в заключении, представлял, что разговаривает со своей любимой матерью. При этом он не знал, жива ли она в действительности. Но чувство любви, которое он испытывал к ней, даже не зная о ее судьбе, позволяло ему не пасть духом самому и не утратить внутренний стержень. Исходя из опыта таких исследований, Франкл заключает, что любовь, направленная к человеческой сущности (не важно, чьей: представителя другого пола, родителей, детей), во-первых, не может исчезнуть вместе с человеком, а, во-вторых, неизбежно обогащает, даже если на нее не отвечают взаимностью. Ведь если любовь, по Франклу, это «сама „мысль“ о человеке — а это как раз то, что видит любящий», то она не может быть зависима от ответа, она «не ищет своего». Обратная же ситуация представляет собой не любовь, а своего рода торг. Любовь позволяет человеку обрести смысл тогда, когда, казалось бы, не только всё утрачено, но и не ясна судьба того, кого любишь. А лишь обретение смысла удерживает личность от распада.
Достоевский за 100 лет до великих психологов XX века, Фромма и Франкла, напишет о любви обладательной и любви деятельной. То, что будет во второй половине XX столетия изложено языком науки, великий русский писатель описал языком культуры. Франкл столкнулся с ужасным опытом слома человека в нацистских концлагерях, Достоевский же наблюдал метаморфозы человеческой души на дореволюционной российской каторге, и этот живой жестокий опыт позволил людям разных миров и эпох сделать общий вывод, невероятно актуальный и для XXI века.
Ведь проблема «любви обладания» для России сегодня, когда потребительское общество вторглось в нашу реальность и пожирает ее стремительно и неумолимо, как страшный вирус, во всей остроте поднимает перед обществом вопрос о поиске лекарств от этой болезни. А значит, побуждает нас вновь обращаться к романам Достоевского, который, перефразируя героя «Записок из подполья», доводил в своих романах до крайности то, что в окружающем мире часто не доходит и до половины. Или же уже дошло, — и именно поэтому Достоевский так востребован сегодня?