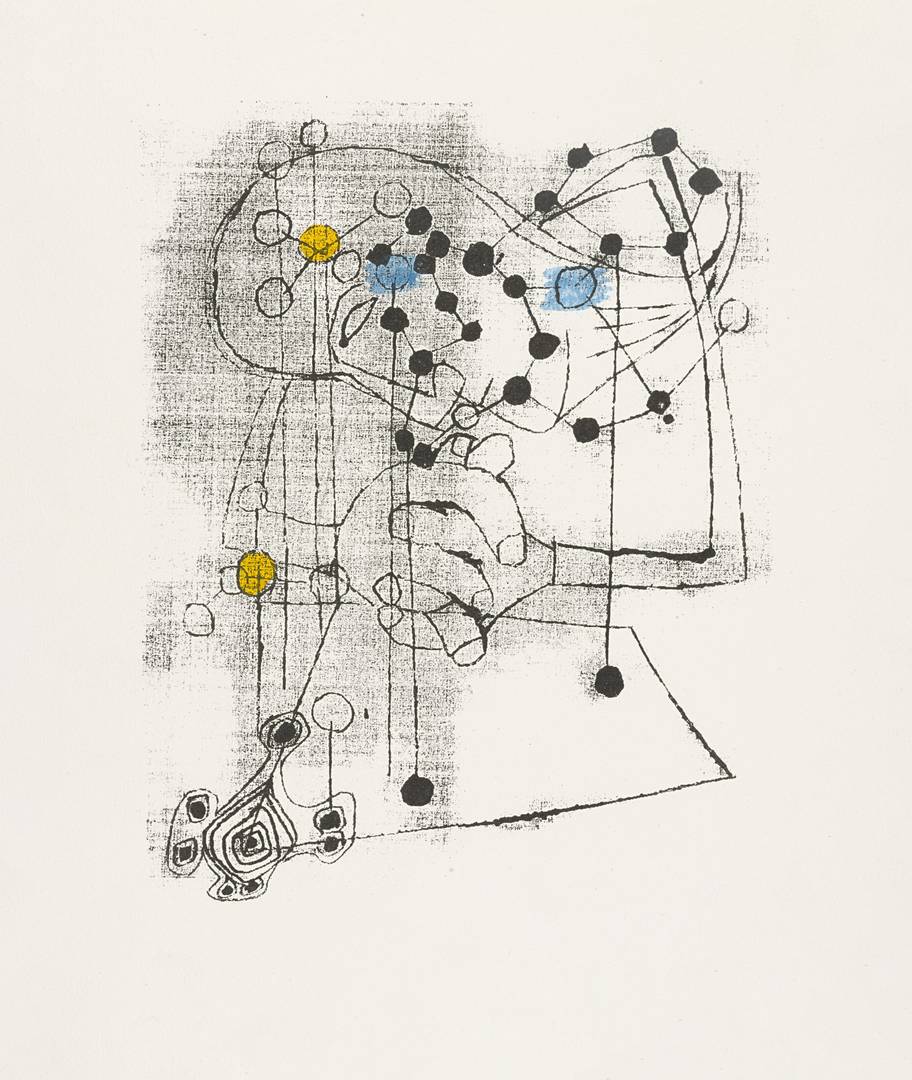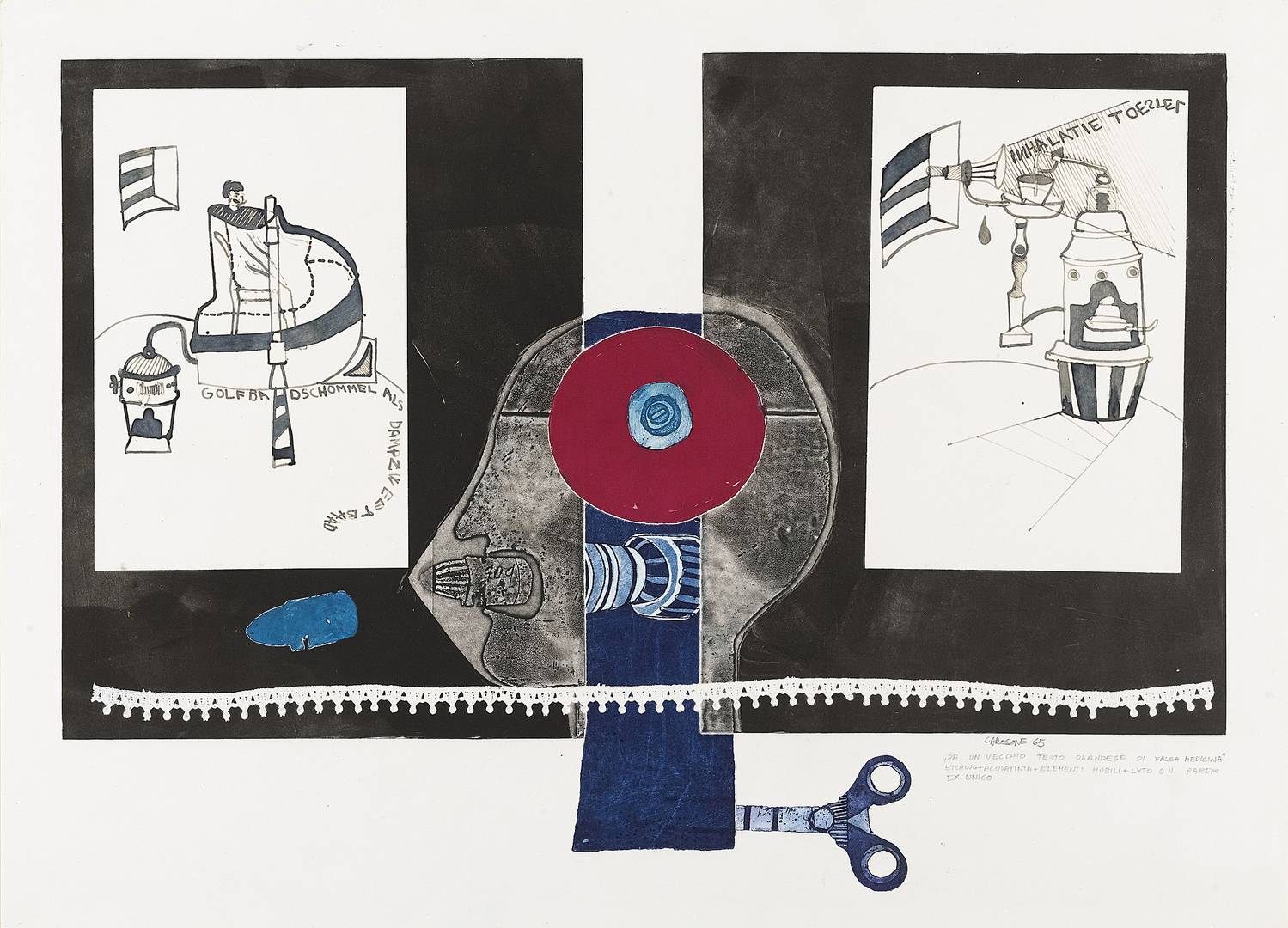
В этой передаче я хочу обсудить одну из сложнейших современных научных проблем — проблему эффективности вакцинирования населения. Такое обсуждение не имеет никакого отношения к огульному отрицанию вакцинирования как такового. Хотя бы потому, что некоторые героические примеры людей, которые осуществляли это вакцинирование, проводя опыты на себе и своих детях, заслуживают какого-то морального поощрения; что даже если они были ошибочны, все равно тут героизм выше всего остального. А они-то как раз не были ошибочны.
Ошибочность, доходящая до безумия, началась в 90-е годы XX века. А раньше что-то было спасительно, а что-то было с перебором, а что-то было даже губительно. Но спасительного, в общем-то, было больше.
Странный глобальный перелом, повторяю, начался в 90-е годы XX века, когда машина этого вакцинирования заработала как-то совсем круто и не туда.
Да, есть люди, отрицающие вакцинирование вообще. Этим занимаются определенные группы в нашем обществе. И я уже говорил об этих группах — отрицающих ковид, отрицающих вакцинирование, отрицающих индустриальную цивилизацию и так далее, — что они попадают в ловушку, испугавшись чего-то на самом деле опасного. В этом смысле их испуг глубоко обоснован и не является следствием их безумия или злокачественности. Но, испугавшись так, они уподобляются тем, кто, ожегшись на молоке, дует на воду.
На самом же деле, как мне представляется, проблема вакцинации обнажает негативные свойства мировой буржуазной системы здравоохранения. Эти свойства грозят самому существованию человечества. При том что эти свойства порождены даже не самой буржуазностью как таковой (хотя отчасти и она в этом виновата), но, прежде всего, очевидной трансформацией этой буржуазности во что-то другое. В какую-то постбуржуазную ситуацию, посткапиталистическую, которая еще страшнее классической буржуазной капиталистической. Это Маркс считал, что посткапитализм обязательно будет коммунизмом. А мы лицезрим посткапитализм, который ужаснее капитализма, и никаким коммунизмом не пахнет.
Итак, есть негативные свойства этой новой мутирующей мировой системы, которую у нас копируют самым холопским образом, еще и говоря при этом о том, что мы идем другим путем. Но это вовсе не означает, что у существующей системы мирового здравоохранения вообще нет позитивных свойств. Это не означает также, что надо не избавлять систему здравоохранения от негативов, не обсуждать эти негативы, а откатываться от здравоохранения как такового, вернувшись в догиппократовскую эпоху знахарства, колдунов и прочего.
Между тем когда ты начинаешь обсуждать эти негативы — очевидные, вопиющие, — то тебе, в полном соответствии с анекдотом на тему о верблюде, вменяют отрицание здравоохранения как такового. Или как минимум отрицание самых фундаментальных достижений этого здравоохранения — таких, как вакцинация населения. И якобы это отрицание держится то ли на архаике, то ли на безумии…
А если нечто в этом вопросе держится на последних достижениях иммунологии, на переднем крае этой иммунологии? Если там, внутри иммунологии (которая нынешним боссам вакцинации, академикам, знакома не хуже, чем мне, а надеюсь — лучше), зарождаются фундаментальные сомнения в том, что всегда и во всех случаях надо вакцинировать — что тогда? Это тоже будет объявлено «архаическим рефлексом», «отказом от науки» и так далее? Так я же знаю, что архаический рефлекс, отказ от науки — не пугает. А пугает проблематизация неких странных действий с позиций переднего края науки.
Так какие же негативные свойства существующей системы здравоохранения действительно необходимо обсуждать, проводя при этом четкое различие между таким обсуждением и отказом от достижений здравоохранения как такового?
У существующей системы здравоохранения несколько негативных свойств, вытекающих из свойств той метасистемы, которая порождает все свои системные детища: образование, здравоохранение, систему социальных коммуникаций, культуру — все.
Поскольку я здесь обсуждаю именно здравоохранение, явившее нам многое благодаря ковиду, то я буду называть негативные свойства именно существующей системы здравоохранения, вовсе не посягая на здравоохранение как таковое и не призывая рассматривать всех героических врачей как убийц в белых халатах.
Итак, я буду перечислять негативные свойства существующей системы здравоохранения.
Негативное свойство № 1 — исчезновение запрета на расчеловечивание. Вот тут-то уже мы имеем дело с чем-то фундаментально нехорошим и к одному здравоохранению не сводящимся. Тут имеет место желание превратить субъекты, обладающие свободной волей, резервными возможностями и так далее, в объекты. И это грех западной медицины. «Вот теперь ты превратился в наш объект, и делаем мы что хотим, получив на это согласие — не важно, твое или твоих родственников. А можно и без согласия, особенно, если ты инфицирован».
Великая позитивная наука (прежде всего естественные науки) появилась там, где субъект-исследователь работал с объектом, ставя над ним эксперимент. Без этого фундаментального методологического основания нет и не может быть всей великой западной естественной науки, которая, в свою очередь, в существенной степени является порождением расколдовывания мира, как говорил, по-моему, Вебер.
Мир расколдован… В природе, вот здесь, в этом лесу, в этой земле, в этом водоеме, во всем, что тебя окружает, нет околдованности, нет бога. Он где-то там, далеко. Протестанты относят его на бесконечное расстояние от этого природного мира.
А если нет бога в природном мире, то с ним, со всем этим миром, можно работать, как повар с картошкой. Сначала — с животными, растениями, как сказано в нобелевском вердикте по поводу Дудны и Шарпантье. А потом — и с человеком. Все время есть желание эту грань перейти, потому что всё расколдовано.
Величайшим достижением мировой мысли (западной, потому что античная греческая мысль — это начало западной мысли, и конфликт этой античной греческой мысли с Римом был невероятно глубок в античную эпоху) было разделение всего на этику, эстетику и гносеологию (всё очень непросто!): на прекрасное, которое не должно быть справедливым и истинным, на истинное, которое не должно быть прекрасным и справедливым, и на справедливое, которое не должно быть красивым и истинным. Вот на эти три сферы. Так рухнул миф. Так началось мышление. Так возникло что-то — то, что Ясперс называет осевым временем, другие называют началом подлинного развития человеческой цивилизации.
Можно ли на это посягнуть? Можно ли не восхищаться тем, насколько мощно это все развивалось? Но ведь у этого развития всегда было одно ограничение. Потому что те, кто верили в бога, говорили: бог прекрасен — одновременно истинен и справедлив. И делить вы его не будете.
И даже когда на Руси ушла эта всеобщая вера в бога, в культуре русской осталась эта неделимость. Она же — запрос на целостность. Она же — симфоничность развития.
Русская культура, будучи частью античности и наследником именно греческой, а не римской античности, никогда не посягала на развитие — в отличие от восточной, которая к развитию всегда относилась с тоской (золотой век позади и всё будет непрерывно ухудшаться). Русская культура в этом смысле — часть западной, но это другая западная культура.
Русская идея, что бы о ней ни говорили, это идея симфонического развития. Не антигуманно-технократического, а симфонического. Не бесконечного дробления на части, а взыскания целостности. И это не отменяло русскую науку, русскую медицину и уж тем более культуру, но это делало ее другой. И это другое все время указывало, что развитие может быть благим. Может! Все остальные говорили: «Развитие — это от демона, это ухудшение, это путь в Кали-Югу, это кошмар». А русские говорили: «Нет. Развитие может быть другим. Оно может быть благим. Оно может быть гуманистически-симфоническим. Оно может быть восходящим». И вера в это существовала внутри всего: в русской совершенно научной медицине, русской культуре, восхищавшейся Западом, а создававшей что-то совершенно свое, русской научной мысли. Всего.
Но до поры до времени вот это западное разделение, эта демифологизация (а без нее никогда бы не было науки, которая носит великий характер в этом смысле) не проявляла еще свой смертный оскал, свое, как говорил Шпенглер, фундаментально фаустианское качество. А теперь она его проявляет каждый день.
Чего же не хочет-то эта западная старуха Смерть, оскалившаяся под видом технократического развития, отрицающего человека?
Она не хочет, чтобы рядом было другое развитие, чтоб вот эта русская традиция существовала и двигалась дальше — русская традиция, схваченная и продолженная как бы атеистическими коммунистами, непрерывно грезившими о благе. И в том смысле — да, создавшими и другую медицину, и другое образование, и другую культуру. Да, это факт.
Так вот, негативные свойства западной модели развития (а не модели развития вообще) — это невероятно важный вопрос. Очень непростой и невероятно важный. Это исчезновение запрета на расчеловечивание. Вот уже Нобелевская премия присуждена людям, которые будут кромсать геном. Они не будут искать резервные возможности в человеке. Они не будут сочетать исследование человека с благоговением перед жизнью, о котором говорил Швейцер. Они это будут кромсать.
И, конечно, тут медицина имеет изначальный грех. Не только великое благо она в себе несет, но и изначальный грех. Она к человеку в западном варианте стала относиться как к объекту. И она все разделила, расплевавшись с восточной медициной. Завкафедрой правого пальца (утрирую, конечно, — понимаете, о чем говорю) не знает ничего о носе человеческом. А если случайно правый палец болит потому, что что-нибудь в мозгу не в порядке — тогда к соседнему отделу надо идти.
Пусть это не вполне так, как я сейчас сказал, но разве это не сходно? Разве эти постоянные дробления на единицы, с постоянным углублением в каждую единицу, не есть антиинтегральное, дифференциальное свойство, которое вообще по отношению ко всем системам ведет в никуда, но которое по отношению к человеку заведомо ведет в никуда?.. У вас болит палец — изучаем палец. А может, он у вас болит, потому что ухо болит?
Нет, мои дорогие, так не бывает!
Вся восточная медицина, у которой свои грехи, она же на этой целостности основана тем не менее. А русская забирала всё лучшее с Востока и с Запада.
Так вот теперь мы имеем дело с исчезновением запрета на расчеловечивание. Человек — это вещь. Мы совершенствуем его, как машину. Разбираем на части. «Музыку я разъял, как труп». Ну ты разъял ее, как труп, — получил труп. На то ты и Сальери, а не Моцарт.
Я показал, как именно накапливается такой чудовищный негатив в рамках существующей жизни. И как он дополнительно распоясался благодаря ковиду. Но тут ведь одно другое подхлестывает. Ковид, дистанционное образование, цифровизация — всё дует в эту дуду.
Человечество несет поток расчеловечивающей технократизации — не великой техники и науки, которая вернет человеку его во всей полноте, а дробления.
Текущая жизнь являет нам всё новые примеры подобного посягательства на неприкосновенность вида Homo sapiens. Это посягательство является частью посягательства на любую целостность, любую системность, любую несводимость к дроблению.
Есть притча о султане, который очень возбуждался, когда великолепная женщина в сложно построенном наряде танцевала. И он говорил: «Сними это». И она снимала шаль, потом она снимала какую-нибудь накидку газовую, потом она снимала платье, потом он орал «Дальше!», она снимала нижнее белье. Потом он посмотрел — она голая, и сказал: «Сними это». И с нее содрали кожу.
Это не такая глупая притча. И не о восточном султане тут идет речь.
Повторяю, текущая жизнь являет нам всё новые и новые примеры подобного посягательства на неприкосновенность вида Homo sapiens. Вот еще один — Нобелевская премия. При этом даже те, кто относится к этому негативно, вздыхая, говорят: «А что поделать? Придется жить в этом ужасе, ибо это мировой тренд».
Я все время подчеркиваю, что в поведении сегодняшней, крайне несовершенной и зачастую двусмысленной российской власти позитивным элементом является вот это человечески-моральное «Ах, ведь нехорошо!»
Но если за этим позитивным элементом «Ах, ведь нехорошо!» не идет возможность другого развития — всё, конец! Никакие моральные рефлексии ничего не отменят. Если вся наука — это Фаучи, если всё, что можно сделать с болезнью — это вакцинировать, надо ставить крест на человечестве.
И ведь к этому сейчас идет. В этом колоссальная ущербность позиций сегодняшней нашей власти. Вот эта модернизация — «все флаги в гости будут к нам». Сделаем, как на Западе, оракул там. Вот это всё, помноженное на административный раж…
Ведь чуял же народ в этом нечто нехорошее!
Моя мать года не могла провести, чтобы не съездить в Ленинград и в Царское Село. Она дышала великолепным воздухом этого города. Но ведь не одно же великолепие там существует. Там есть вот это… Петровское безумие спасло и погубило. И не зря ведь Ленин перенес столицу в Москву, а Сталин восстановил патриаршество. Что-то там чувствовалось другое.
Да, мы наследники западной цивилизации. Но мы наследники не Рима, а Греции. И чего-то более древнего, чем она. Мы не отрицаем развитие, но мы все время видим его другим, симфоническим, холическим, то есть целостным, восходящим, человекоцентричным.
А когда нам на это говорят: «Ну, придется жить в этом ужасе, мировой тренд», то мы даже не говорим, что жить в ужасе… Можно жить и в концлагере, можно жить где угодно, а не бежать из него. Мы даже это не говорим, мы говорим: «В этом ужасе не будет жизни». Никакой жизни в этом не будет. Эти солдаты-роботы с их суперсвойствами, эти жестокие, лишенные страха суперсущества с разрезанным геномом — они своих создателей порвут в клочки. А потом друг друга. И это ясно любому человеку, который не впал в технократический грех.
Но ведь всё не сводится к этому зловещему свойству.
Читайте также: «Ни СИЗов, ни аспирина, ни лечения…». В суде оценили работу COVID-больницы
Негативное свойство № 2 — это косное высокомерие специалистов. Оно идет рука об руку с негативным свойством № 1, притом что косность специалистов уже превращается в тупость и полуграмотность.
Огромное количество людей, занятых здравоохранением, освоило определенные знания, которые по определению всегда при подобном освоении являются в существенной степени устаревшими. Но люди, освоившие эти знания, в силу определенных свойств своих превращают это благотворное освоение в способ самоутверждения.
Ученый все время хочет стать жрецом. И чем он мелкотравчатее, чем он ущербнее, чем он закомплексованнее, наконец, тем быстрее он хочет стать не просто жрецом, а великим жрецом, непререкаемым жрецом, жрецом жрецов. Люди, освоившие в высших учебных заведениях те знания, которые в нынешнем мире стремительно устаревают, превращают эти исторически преходящие знания в знания абсолютные. Одновременно с этим они превращают эти якобы абсолютные знания в нечто, превращающее их обладателей чуть ли не в жрецов абсолютной истины. Всё!
Наука боролась с церковью для того, чтобы самой стать ущербной церковью.
А поскольку у современной системы здравоохранения есть еще и негативное свойство № 3 — чудовищная зависимость от своего коммерческого основания, главной частью которого является промышленность производства лекарств, она же фармакология, — то косное высокомерие специалистов сплетается воедино с инерционной ориентацией на прибыль, вытекающей из коммерческой природы этого — да, в этом случае буржуазного — здравоохранения. Которая, конечно, в свою очередь, задается коммерческой природой буржуазного общества в целом. А в условиях, когда это общество еще и мутирует, то есть окончательно освобождается от всяких реликтов морали…
Оно никогда этим не грешило, в «холодной воде эгоистического расчета» утопили они всё, эти буржуа, как говорили авторы «Коммунистического манифеста». Никогда не грешило это общество особой моралью. Но то, во что оно превращается, — это нечто.
Я знал специалистов по Марксу (очень хороших, не без своих пригорков и ручейков, но очень хороших), которые настаивали на том, что Маркс не считал капитализм формацией. Рабовладение считал, феодализм считал, а капитализм — нет. Он считал капитализм переходным периодом от (внимание!) гуманизированного феодализма к дегуманизированному. Он считал, что весь этот культ золотого тельца нужен (по мнению тех исследователей Маркса, о которых я говорю) только для того, чтобы от гуманизированного феодализма, христианского в частности, перейти к дегуманизированному. И вот это будет формация, настоящая. В этом смысле — посткапиталистическая и устойчивая.
Ковид есть часть вот этой дегуманизации капиталистической формации, которая не есть формация, а которая и есть этот реагент дегуманизации.
Вот ничто так не описывает этот процесс, как ковид. А этот процесс в миллионы раз страшнее ковида. При этом я не говорю, что ковид не заболевание или не опасное заболевание. Но этот процесс в миллионы раз опаснее. Неизмеримо опаснее.
Если высшим целевым ориентиром будет не возвышение человека, а достижение максимума прибыли, то на земле в итоге будет построен абсолютный ад. Если во имя этого достижения прибыли в человека полезут, как в машину, и сделают его машиной, то машиной он не станет. Он станет бесом. И разрушит и себя, и своих создателей. Поинтересуйтесь големом, хотя бы во второй части «Фауста» Гете.
А здравоохранение станет существенной частью этого ада не потому, что оно само по себе ущербно. Хотя в нем есть вот это вот объективирование того, что запрещено объективировать — человека, превращение человека в предмет, с которым работают. Но оно не поэтому станет существенной частью ада. А потому, что оно впишется во всеобщую коммерциализацию, прочно связанную на этом новом этапе со всеобщей дегуманизацией, осуществляемой как бы во имя коммерциализации… И в этом смысле мне всегда была страшна демонизация Моисеева жречества, иногда осуществляемая, потому что я не понимал, в пользу кого?.. Видимо, в пользу жречества золотого тельца? Но там-то просто оргия, кровь и беспредел. И вот к ним-то и идем.
В данной передаче я хочу обсудить сразу три негатива современной системы здравоохранения. Притом что каждый из этих негативов — и они все три вместе — вытекают из губительности всего современного макротренда. Он же мутирующий капитализм, мутокапитализм.
Еще раз подчеркну, что капитализм на наших глазах превращается из классически буржуазного, еще как-то связанного с представлением о человеческом восхождении (что, не было его у Бальзака, Диккенса, Золя, Флобера, Киплинга, наконец?), в нечто, абсолютно не связанное с восхождением человека.
Кстати, по этому поводу поклонники Редьярда Киплинга говорят: «Мы надеялись, что вот он начал изучать человека — не важно, белого… противопоставлять индусу — не важно, как… что потом он начнет изучать человека глубже, потом он найдет вот этот источник развития западного человека и соединит это с Востоком… А он что сделал? Он сначала описывал западного человека, потом стал описывать Томми как солдата, потом стал описывать восточного человека, потом зверя, а потом машину. Как же ему осточертел, — говорят поклонники Киплинга, — этот самый западный человек, что он начал описывать что угодно, кроме него!»
А ведь это касается не только Киплинга. Вот этот отказ от истории и гуманизма, произошедший раньше, теперь превращается у нас на глазах в пакость, одним из крохотных слагаемых которой является ковид. Но поскольку этот ковид наращивает пакостность, то он крайне существенен.
«Человеческое, слишком человеческое», — говорил Фридрих Ницше.
Всё это в передачах о ковиде нельзя обсуждать абстрактно. Я обещал рассмотреть вопрос о том посягательстве на вид Homo sapiens, которое вытекает из уже рассмотренного мною редактирования генома. И мне кажется, что наилучший способ обсуждения этого вопроса — это ознакомление зрителя с натуральным текстом из произведения Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». Потому что одной лишь констатации сходства того, что описано в этом произведении, с современностью, недостаточно. Такая констатация лишена, образно говоря, вкуса, цвета и запаха. Тем более что Хаксли далеко не самый читаемый автор. А даже те, кто его когда-то читал, в основном помнят (поверьте, я проверял), что Хаксли описывает какое-то нехорошее устройство общества, не имеющее отношения к современным актуальным проблемам наличествующего общественного бытия.
Ну, так давайте для начала убедимся в том, что это не так. Что он описывает не просто некий ужас, он нечто другое описывает. И он описывает не нечто, не имеющее отношения к сегодняшнему дню, а нечто, вопиюще созвучное современности.
Извинившись перед зрителями, которые хорошо знакомы с Хаксли, я тем не менее открываю первую страницу этого самого произведения Хаксли «О дивный новый мир» и читаю следующее:
«Серое приземистое здание — всего лишь тридцать четыре этажа. Над главным входом надпись: «Центрально-лондонский инкубаторий и воспитательный центр». И на геральдическом щите девиз мирового государства: «Общность, одинаковость, стабильность».
«Здесь у нас зал оплодотворения, — сказал директор инкубатория и воспитательного центра, открывая дверь…»
Директор центрального лондонского ИВЦ (инкубатория и воспитательного центра) считал всегдашним своим долгом провести студентов-новичков по залам и отделам этого самого ИВЦ.
«Чтобы дать вам общую идею, — пояснил он цель обхода. — Ибо, конечно, общую идею хоть какую-то дать студентам надо. Для того, чтобы потом делали дело с пониманием. Но дать ее надо лишь в минимальной дозе. Иначе из студентов не выйдет хороших и счастливых членов общества».
Этого общества — добавлю я от себя.
«Ведь, как всем известно, — пишет Хаксли, — если хочешь быть счастлив и добродетелен, то не обобщай, а держись узких частностей».
Чувствуете, какая гениальная мысль, какая современная?
«Общая идея является, — пишет Хаксли, — неизбежным интеллектуальным злом. Не философы, а собиратели марок и выпиливатели рамочек составляют становой хребет общества».
«Начнем сначала», — сказал директор.
Вот здесь, — указал он руками, — у нас инкубаторы».
Директор описал, как находящиеся в инкубаторе яйцеклетки погружаются в теплый бульон со свободно плавающими сперматозоидами, как оплодотворенные яйца возвращаются в инкубаторы. И там альфы и беты, относительно продвинутая часть молодого будущего поколения, остаются до конца, а гаммы, дельты и эпсилоны через тридцать шесть часов обрабатываются в соответствующих лабораториях по методу Бокановского.
(Сегодня впору сказать: по методу Шарпантье — Дудны).
«Студенты влюбленно смотрели на директора и записывали.
«По существу, — говорил директор, — бокановскизация состоит из серии процедур, угнетающих развитие. Мы глушим нормальный рост и, как это ни парадоксально, в ответ яйцо почкуется».
«Яйцо почкуется», — восторженно записывали студенты.
«Бокановскизация — одно из главнейших орудий общественной стабильности», — сказал директор.
Студенты влюбленно смотрели на директора и записывали.
«Оно дает стандартных людей. Равномерными и одинаковыми порциями. Целый небольшой завод комплектуется из одного бокановскизированного яйца. 96 тождественных близнецов, работающих на 96 тождественных станках», — голос директора слегка вибрировал от воодушевления.
«Впервые в истории — общность, одинаковость, стабильность, — проскандировал он девиз планеты. — Величественные слова».
<…>
Бесконечными лентами тянулись рабочие линии. Куда ни взглянуть — уходила во мрак, растворяясь, стальная паутина ярусов. Работники деловито сгружали бутылки (с будущими людьми. — Прим. С. К.) с движущейся лестницы».
Студентам сообщили, что они лицезреют эскалатор, ведущий из Зала предопределения. И что его наличие позволяет «из сферы простого рабского подражания природе» перейти в «куда более увлекательный мир человеческой изобретательности». Что, формируя зародыши в разных средах, создатели нового поколения подготавливают младенцев к разной работе в обществе: одних к более высоко престижной, других к грубой, но все довольны.
Это регулируется поступлением кислорода, нехватка которого действует на мозг и скелет. А также на разум. Но от представителей низшей разновидности эпсилон человеческий разум не требуется.
Зародыши формируются в разной температуре в соответствии с предопределением. Те, кто должны работать в тепле, уже к моменту раскупорки люто боятся холода. Им предназначено поселиться в тропиках или стать горнорабочими. Телесная боязнь холода будет позже подкреплена воспитанием мозга.
«Мы приучаем их тело благоденствовать в тепле. А наши коллеги на верхних этажах внедрят любовь к теплу в их сознание. И в этом <…> весь секрет счастья и добродетели. Люби то, что тебе предначертано. Всё воспитание тела и мозга как раз и имеет целью привить воспитуемым любовь к их неизбежной социальной судьбе».
А вот здесь мы производим инъекции. Вводим самые разные вакцины — от брюшного тифа, сонной болезни… Ковида — добавляю от себя. Всё остальное я цитирую.
«Работников для тропической зоны начинаем колоть на 150-м метре, <…> когда у зародыша еще есть жабры. Мы иммунизируем рыбу против болезней будущего человека».
Далее студенты переходят в зал воспитания. Здесь директор опять начинает говорить.
«В давние времена, еще до успения господа нашего Форда (обратите внимание, он не на коммунистов гонит пургу. Господь — как его зовут? — Форд! — прим. С. К.), жил-был мальчик по имени Рувим Рабинович. Родители Рувима…»
«Что такое родители?» — спросил директор.
«Неловкое молчание. Иные из студентов покраснели. Они еще не научились проводить существенное, но зачастую очень тонкое различие между непристойностями и строгой научной терминологией. Наконец, один из студентов набрался храбрости и поднял руку.
«Люди были раньше… — студент замялся, щеки его залила краска, — были, значит, живородящими».
«Совершенно верно», — директор одобрительно кивнул.
«И когда у них дети раскупоривались…»
«Рождались», — поправил директор.
«…тогда, значит, они становились родителями. То есть не дети, конечно, а те, у кого…» — бедный юноша смутился окончательно.
«Короче, — резюмировал директор, — родителями назывались отец и мать».
Гулко упали — трах-тарарах! — в сконфуженную тишину эти ругательства. А в данном случае научные термины».
Введя их, директор продолжил обсуждать Рувима Рабиновича.
Хаксли опубликовал это произведение в 1932 году. Он просто запоминал то, что обсуждали члены его семьи, выдающиеся ученые, считавшие, что мир нужно организовать именно таким способом. Вы думаете, их сейчас мало?
Прошло чуть менее столетия. И что? Мы всё еще будем говорить, что Хаксли не озвучивал определенный научно обоснованный проект, который поэтапно воплощается в жизнь, а произвольным образом фантазировал?
Итак, негатив № 1, встроенный в систему современного здравоохранения и жизни в целом, — это приверженность определенной узкой группы антигуманистических (очень цепких, умных и образованных мерзавцев, кардинальным образом влияющих на научные, производственные и иные тенденции, они же глобальный тренд) тому, что можно именовать моделью Хаксли. Она же — модель расчеловечивания.
Но ведь не все же представители существующей системы здравоохранения и сопряженных с нею областей являются такими мерзавцами. Огромное количество людей просто движутся в тренде, считая, что они делают благое дело. И для них этим трендом вовсе не является то, что описал Хаксли. Для них этот тренд — это осуществление на практике того, чему их учили.
Мерзавцы будут колоть определенные вакцины, чтобы дегуманизировать мир по Хаксли. А многие другие будут их колоть либо потому, что они убеждены в спасительности, либо потому, что им так сказали. Либо потому, что таков бизнес.
Косное высокомерие, пропитанное убежденностью в том, что ты приносишь благо людям, — это некое дополнение к посягательству на человечество. И это два абсолютно разнородных явления, нужным образом соединенных вместе.
Поскольку я уже начал с анекдота о необходимости доказательств того, что ты не принадлежишь к семейству верблюдов, то я позволю себе и дальше пользоваться анекдотами как поясняющими метафорами.
Согласно одному советскому анекдоту, представитель северного народа с удовлетворением констатировал, что обучение в Высшей партийной школе подействовало на него самым благотворным образом. Поскольку (цитирую этот полузабытый и многим уже непонятный анекдот) он, этот представитель северного народа, раньше-то думал, будучи необразованным, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это брат и сестра, а теперь, после получения высшего партийного образования, он понял, что это четыре совершенно разных человека.
Согласно другому анекдоту той же эпохи, в ходе Гражданской войны в теплушке оказались солдат Красной Армии и старый крестьянин. И солдат стал объяснять крестьянину, почему теперь точно известно, что бога нет, что наука это неопровержимо доказала, потому что самолеты летают через облака, и видно, что бог не сидит на облаке, как об этом лгали попы. Крестьянин спрашивает солдата: «А вот скажи мне, мил человек, почему так жизнь устроена, что я кормлю определенную скотину одной и той же пищей, а какают они по-разному? Кто шариками, кто лепешками». Солдат отвечает крестьянину: «Ну, дед, это проблема сложная. В ней сходу не разберешься». На что крестьянин говорит солдату: «Вишь, мил человек, в дерьме не разбираешься, а о боге рассуждаешь».
Для меня эти анекдоты важны не сами по себе, а как иллюстрация того состояния умов, которое я уже охарактеризовал как косно-высокомерное, а также как иллюстрация некоего коллективного заболевания, поразившего сознание фактически всего современного человечества.
Суть этого заболевания в том, что наука не может не делиться добытыми ею знаниями с человеком, никакого отношения к науке не имеющим. И она не может в современном обществе соединить у далеких от науки людей эти самые знания с тем, что они рождают в мозгу ученого. Потому что ученый, если он настоящий ученый и не мерзавец (а именно про это говорит Моцарт: «Гений и злодейство — две вещи несовместные»), всегда готов к пересмотру знаний, к их радикальному развитию, к тому, что эти знания окажутся на новом витке развития науки опровергнуты или существенно дополнены.
А тот человек, который должен пользоваться знаниями, а не развивать их, должен относиться к полученным знаниям совсем иным образом. Он должен принять их как несомненность, а отсюда (если этот человек ущербен (а он именно таковым производится современной цивилизацией) — один шаг до высокомерия: мол, я-то знаю, что к чему, а тот, кто не знает, тот дикарь.
«Кто не скачет, тот москаль»… Кто не знает, тот дикарь…
Герой пьесы Дюрренматта «Физики», который в сумасшедшем доме взял себе имя Ньютон, беседует с инспектором, пытающимся понять, почему этот самый Ньютон убил медсестру. Ньютон спрашивает инспектора, которого зовут Рихард: «Что произойдет, если повернуть выключатель у двери?»
Рихард отвечает: «Зажжется свет».
Ньютон спрашивает: «Вы включите электрический ток. Вы что-нибудь понимаете в электричестве, Рихард?»
Рихард отвечает: «Я ведь не физик».
Ньютон: «Я тоже мало понимаю в этом. Я создаю на основе наблюдений над природой теорию электричества. Я излагаю эту теорию на языке математики и получаю в результате формулы. Затем приходят техники. Им нужны только формулы. Они обращаются с электричеством, как сутенер с проституткой, они его эксплуатируют. Они делают машины. Но машины могут работать только тогда, когда они независимы от науки, которая их породила. Вот почему любой осел может сегодня зажечь электрическую лампочку или взорвать атомную бомбу. И вы собираетесь меня за это арестовать, Рихард?
Но почему же тогда вы решаетесь включать и выключать свет, ничего не понимая в электричестве? Это вы преступник, Рихард».
Здесь речь идет о трагедии современной цивилизации. Вот той самой, которая встала на путь дегуманизации и абсолютизации технократического развития, на тот путь, который русская цивилизация, всегда утверждавшая, что развитие должно быть симфоническим, целостным, восходящим и так далее, не принимала.
Герой пьесы Дюрренматта справедливо настаивает на том, что некое опасное легкомыслие когда-нибудь приведет к полному обрушению человеческой цивилизации, вставшей на этот путь расчеловечивания, абсолютизации технократического момента, такой дифференцированно-ролевой тупости.
Я перед тем как процитировать Дюрренматта, привел советские анекдоты как примеры такого разнокачественного легкомыслия. В одних случаях это легкомыслие совсем уж неуклюжее, как у представителя северных народов, который ведь теперь твердо, вернувшись в родные края и получив административную должность, будет всех учить, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это четыре совершенно разных человека. А тех, кто возражает ему или не выражает восторга по поводу его знаний, будет изолировать, сажать в тюрьму, выгонять с работы, понижать в должности. В другом случае это такое простецкое, как у солдата, разговаривавшего с крестьянином о боге, легкомыслие. А в третьем случае оно холодно безразличное, как у Рихарда.
Но это всё модификации одного и того же легкомыслия. Которое вытекает из сути современной цивилизации, идущей путем расчеловечивания и абсолютизации технократического момента. Это вытекает из страшного разрыва между постоянно готовым к опровержению любых своих основ мышлением настоящего ученого и высокомерием полубезграмотного пользователя, решившего, что он усвоил, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это четыре совершенно разных человека. Он же что-то усвоил! И относится к себе, усвоившему, с бесконечным уважением. А к тому, кто не усвоил, — с пренебрежением или презрением. И говорит такому сомневающемуся: «Раз ты сомневаешься, что дважды два четыре, а Карл Маркс и Фридрих Энгельс — это четыре совершенно разных человека, то ты либо опасный сумасшедший, либо дикарь».
(Продолжение следует.)