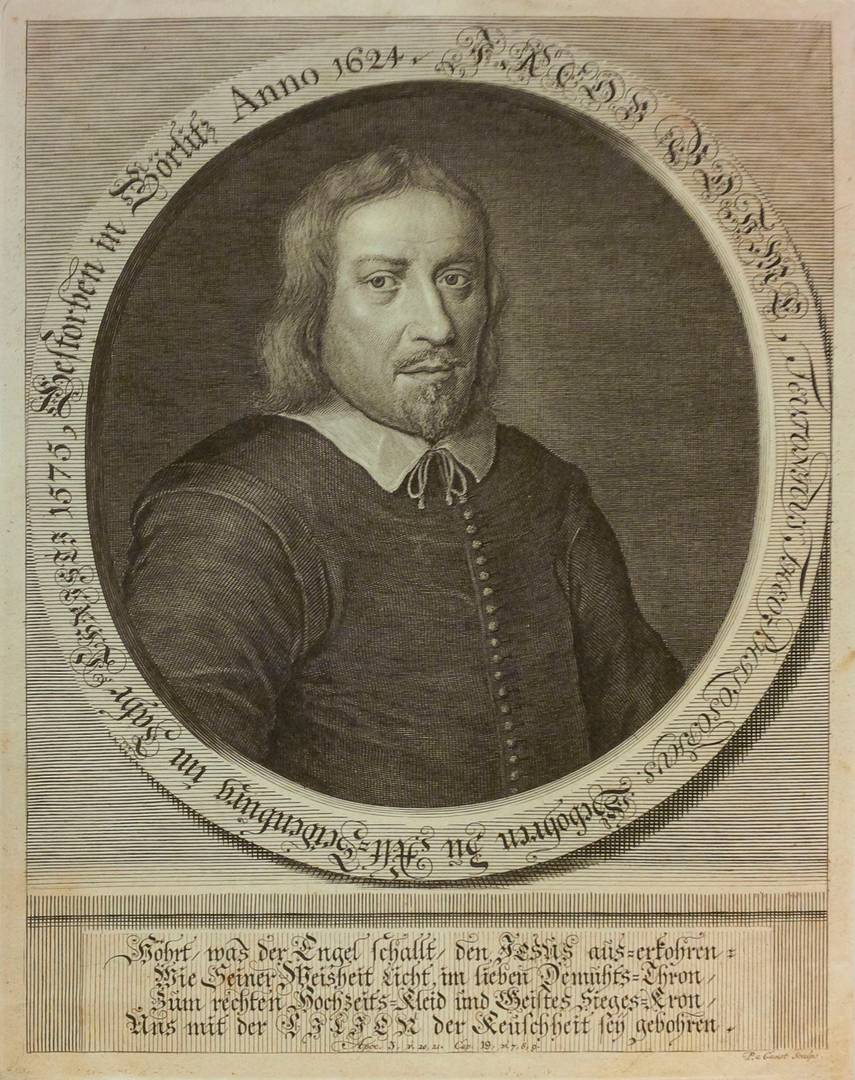Итак, одним из первых, кто публично сформулировал идеи мистического анархизма (одной из разновидностей гностицизма, коим несть числа), был писатель Георгий Иванович Чулков, входивший в кружок Мережковского. Чулков в этом смысле считал себя учеником поэта-символиста Вячеслава Иванова (1866–1949).
Как позднее отмечал сам Чулков, его брошюра «О мистическом анархизме» (1906) неожиданно для него самого вызвала необычайно страстную полемику. В статье «Красный призрак», написанной в начале 1918 года, Чулков вспоминал, что брошюру, несмотря на предисловие уважаемого Вяч. Иванова, старались высмеять все — «и декаденты, и провозвестники „нового религиозного сознания“, и славянофилы, и марксисты, и народники». Причину этого «литературного вихря» Чулков видел в том, что он слишком неосторожно и поспешно высказал то, что было на уме у многих, — мысль о кризисе декадентства.
Концепцию мистического анархизма Чулков выводил из предельного развития декадентства, переходящего в свою противоположность. Декадентство, по мнению Чулкова, есть прежде всего бунт, своеволие, самоутверждение, беззаконие, обособление и эгоизм. А мистический анархизм преодолевает бунт, внутренний мятеж самоопределяющейся личности, и, как утверждал Вяч. Иванов, «постулирует соборность как последнюю свободу человечества, исключающую в сфере общественных отношений всякое принуждение».
Как именно через анархизм преодолевается бунт и своеволие, непонятно не только нам. Чулков с горечью признавал, что был неправильно понят, и что вместо светлого мистического анархизма в его брошюре интеллигенция увидела темный анархический мистицизм — «бесформенный, безрелигиозный, темный и демонический».
Анархический мистицизм в трактовке Чулкова — это воплощение принципа «если Бога нет, то все позволено» из «Братьев Карамазовых» Достоевского, когда нет никаких сдерживающих факторов, нет никаких святынь, нет норм, нет законов, нет догматов, когда на все «наплевать». Другими словами, высшая форма нигилизма.
Мистический анархизм же Чулков определял так: «Под анархизмом я разумею учение о безвластии, т. е. учение о путях освобождения индивидуума от власти над ним внешних обязательных норм — государственных и социальных.
Под философским анархизмом я разумею учение о безвластии в более глубоком смысле, т. е. учение о путях освобождения индивидуума от власти над ним не только внешних форм государственности и общественности, но и всех обязательных норм вообще — моральных и религиозных. Наиболее ярким представителем такого философского анархизма приходится, конечно, считать Ницше. <…>
И — наконец — под мистическим анархизмом я разумею учение о путях последнего освобождения, которое заключает в себе последнее утверждение личности в начале абсолютном».
Нет никаких сомнений, что под «абсолютным началом» Чулков подразумевает Абсолют гностиков, а преодоление мира или освобождение от норм, по сути, тождественно освобождению духа от уз материи. Видимо, об этой «соборности», воплощаемой в Абсолюте, говорил и Вяч. Иванов. В Абсолюте никакого бунта и своеволия быть не может по определению.
В знаменитой статье «Грядущий хам», опубликованной в том же 1906 году, что и брошюра Чулкова, Мережковский, рассуждая о «китаизации» или омещанивании Европы, говорит, в сущности, о том же абсолютном начале, что и Чулков: «Анархизм отрицает всякий общественный порядок, всякую внешнюю власть, во имя абсолютной свободы, абсолютной личности, — этого начала всех начал и конца всех концов».
Интересно, что Мережковский ставил анархизм выше социализма, поскольку только анархизм мог победить мещанство. Социализм в интерпретации Мережковского — это, во-первых, религия (ложная теократия). А во-вторых, социализм «невольно включает в себя дух вечной середины, мещанства», поскольку содержит социальное творчество!
В отличие от социализма, зараженного мещанством и социальным творчеством, бакунинский анархизм свободен от этого. Но тут, пишет Мережковский, и «начинается скрытая, бессознательная мистика, пусть безбожная, противобожная, но все же мистика». То есть анархизм в интерпретации Мережковского оказывается неразрывно связан с мистикой. (Отметим, что тот же Чулков в своей брошюре доказывал, что теоретик анархизма Бакунин одно время увлекался мистикой, но потом бросил.)
О концептуальной связи анархизма (то есть безвластия) и мистики пишет учитель Чулкова — Вяч. Иванов в предисловии к чулковской брошюре: «Идея безвластия есть уже мистика, или, по крайней мере, является несостоятельной, если отчуждена от корней мистических».
Крайне занятно слышать, когда сегодняшние анархисты упрекают движение «Суть времени» в интересе к метафизике и чуть ли не в занятиях оккультными практиками, притом что в основе их собственного учения лежат мистика и религиозность гностического типа.
Но прежде чем говорить о мистике и религиозности анархизма, обратим внимание на некий парадокс, который мы уже упоминали выше, обсуждая Мережковского. Причина, по которой Мережковский с супругой категорически не приняли Октябрьскую революцию, понятна. Совершенно справедливо опасаясь воцарения всемирного мещанства, Мережковский отверг социализм, считая, что ему внутренне также присуще мещанство. Видя источник мещанства в идиллическом благополучии и увязывая такое благополучие с материальным достатком, который угнетенному большинству обещал социализм, Мережковский не мог принять Октябрь 1917 года. Но почему он воспел Муссолини и Гитлера?
Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к определению трех степеней анархизма, а именно к философскому анархизму. С одной стороны, Чулков называет Ницше представителем философского анархизма, опрокидывателем религиозно-моральных норм. И это действительно так.
Ницше безжалостно расправлялся и с христианством, и с моральными нормами, восславляя сверхчеловека — белокурую бестию, свободную от всех ограничений. В работе «Генеалогия морали», исследуя генезис памяти и совести, Ницше пришел к выводу, что нечистая совесть — «тайное самонасилие» человека над самим собой, «насильственно подавленный инстинкт свободы».
Здесь уместно вспомнить фразу Гитлера «Солдаты, я освобождаю вас от древней химеры, именуемой совестью», которую многие историки считают прямым заимствованием из Ницше. Если предположить, что Мережковский уловил в Гитлере такого своеобразного «философского анархиста», который перестал насиловать себя и других угрызениями совести, то тогда становится понятно, почему Мережковский «запал» на итальянский фашизм и немецкий нацизм.
Действительно, если с одной стороны баррикад — в Германии — освобождают население от морали и нравственности, выращивают здоровых и крепких белокурых бестий, не отягощенных ни образованием, ни воспитанием, а с другой — в СССР — строят высокоморальное общество, вводят бесплатное образование, развивают культуру, общедоступный театр и музеи, то куда податься мистическому анархисту? Выбор очевиден, не правда ли?
С другой стороны, рассуждая о нечистой совести, Ницше говорит, что инстинкт свободы и воля к власти есть одно и то же. Как это сочетается с фундаментальным принципом анархизма, что всякая власть есть источник насилия и потому есть зло? И что собственно в рассуждениях Чулкова о Ницше первично — воля или свобода?
Сам Мережковский не просто восторгался Ницше, он считал его в буквальном смысле святым. Рассуждая о Льве Толстом и его учении в статье «Лев Толстой и Достоевский», Мережковский сравнивает его с Ницше: «Теперь, когда он умер, мы можем прямо сказать: над жизнью этого человека сияет венец не только человеческой славы; это был больше, чем гений, — это был святой, равный величайшим святым и подвижникам прошлых веков».
Кстати, сам Ницще, то ли в шутку, то ли всерьез писал, что больше всего боится, что его признают святым.
В противоположность Ницше, Толстой (которого с определенной натяжкой тоже можно считать анархистом, достаточно вспомнить его принцип непротивления злу силой), по мнению Мережковского, венца святости не достоин.
Возникает закономерный вопрос, святым какой церкви или религии был Ницше для Мережковского? Сам Дмитрий Сергеевич говорил по этому поводу нечто странное. Сначала, что Ницше воплотил «неязыческую святость», и тут же, что Ницше невольно отступил от Христа, но при этом прикоснулся «если не к историческому христианству, то к истинному учению Христову».
Прямо назвать чуть ли не главного ниспровергателя христианства в XIX веке христианским святым Мережковский не хочет, но при этом он противопоставляет «неязыческую святость» Ницше «нехристианской святости» Толстого. Определение святости Ницше Мережковский дает намеренно апофатически — через отрицание, из чего напрашивается вывод, что термин «христианский святой» по отношению к Ницше не выражает того, что хочет Мережковский, поскольку находится в явном противоречии с традиционным христианством, будь то католичество или православие. Хотя к православию Мережковский относился подчеркнуто враждебно.
У четы Мережковский — Гиппиус были сложные отношения с традиционным христианством. Мережковский, будучи с детства человеком религиозным, в какой-то момент понял, что его «подход к православию добром не кончится». В статье «Грядущий хам» Мережковский прямо называет русское православие одним из трех ликов дьявола, он же Грядущий Хам. Притом что еще одним ликом является самодержавие. И тогда понятно, почему Мережковский с Гиппиус приветствовали Февральскую революцию — она свергла монархию в России, тем самым приблизив анархический идеал безвластия.
Мережковский противопоставляет традиционное христианство некоему новому или «истинному» христианству. Что же это такое? В работе «Лев Толстой и Достоевский» Мережковский утверждал, что «истинное» христианство — это ницшеанское дионисийство (столь милое сердцу того же Вяч. Иванова).
Мережковский, по его собственным словам, «доводя до последней черты» то, что высказывал Ницше в «Сумерках Идолов», заявил, что на Голгофе с предельной силой выразилось «дионисийское начало» — так, как оно не выражалось ни в какой античной трагедии. Фактически, хоть и очень витиевато, Мережковский уравнивает Диониса и Христа, упрекая Ницше в том, что как раз этого немецкий пророк и не понял: «Как не почувствовал он [Ницше] благоухания виноградных лоз, Дионисовой крови над таинственною вечерею, где в кровь претворилось „вино новое, вино радости новой“? Как не узнал он лица Его в лице Того, Кто сказал: я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой Виноградарь» (последняя фраза есть прямая цитата из Евангелия от Иоанна, 15:1).
Этот странный синтез язычества и христианства красной чертой проходит через все творчество Мережковского. И чего в этом синтезе больше — вопрос интересный.
Под истинным учением Христа Мережковский понимал любовь и… безвластие. Он указывает, ссылаясь на Новый Завет, что дьявол искушал Христа, предлагая ему власть над всеми царствами мира. Следовательно, властью распоряжается дьявол, и власть вовсе не от Бога, а христианство должно ее избегать.
В открытом письме Николаю Бердяеву «О новом религиозном действии», Мережковский, полемизируя с последним, писал: «Человеческая, только человеческая власть, — не власть, а насилие, не от Бога, а от дьявола. Отношение Церкви Грядущей, теократии к земной человеческой власти может быть выражено словом „безвластие“, „анархия“, весьма несовершенно».
Несмотря на то, что термин «анархизм» отражает суть «истинного христианства» не вполне точно, он ее все-таки отражает, и именно такой смысл в этот термин вкладывал Мережковский. Таким образом, анархизм выводится из христианства, обретая глубоко религиозный характер.
Итак, Мережковский, Чулков и Вячеслав Иванов говорят о религиозности и мистике анархизма, выводя его за рамки чистой политики.
Упомянутое выше открытое письмо философу и религиозному мыслителю Николаю Александровичу Бердяеву (1874–1948), с которым полемизировал и дружил Мережковский, он написал в ответ на критику Бердяева. В 1916 году Бердяев опубликовал критическую статью «Новое христианство (Д. С. Мережковский)», посвященную новому религиозному сознанию, или неохристианству (читай, «истинному» христианству), центральной фигурой которого Бердяев назвал Мережковского.
Любопытно, что, помимо прочего, Бердяев упрекал Мережковского и его новое христианство… в недостаточном гностицизме: «Блестящий литературный талант Мережковского, его дар художественных схематических конструкций, его исключительное умение пользоваться цитатами скрывают бедность и монотонность мысли, маскируют его гностическую неодаренность, его нелюбовь к познанию и его недостаточную философскую подготовку. <…>
Подобно Булгакову, не любит и боится Мережковский гнозиса, имманентно-свободного богопознания. Но он менее Булгакова подготовлен для суждения о религиозном гнозисе, меньше знает. <…>
Мережковский очень любит противопоставлять созерцанию — действие, гностицизму — прагматизм. Это излюбленная его антитеза, к которой он особенно часто прибегает в последнее время. Старое христианство — созерцание, гностицизм».
Сам Бердяев с большой симпатией относился к гностицизму. В 1911 году была опубликована одна из его самых известных работ — «Философия свободы». В ней Бердяев достаточно откровенен: «Дух дышит, где хочет, и гностический дар великих философов и мистиков был дар боговдохновенный. Гностический дар не прямо пропорционален ступеням святости. У Я. Бёме был больший гностический дар, чем у святых. Это дар особый. Глубоким представляется учение Мейстера Эккерта о Перво-Божестве (Gottheit), которое глубже и изначальнее Бога (Gott). В Перво-Божестве, которое выше всех Лиц Троицы и связанной с ними диалектики, предвечно и абсолютно преодолевается всякая антиномичность, по отношению к Нему исчезает даже сам вопрос о бытии и небытии».
В отличие от Соловьева и Карсавина, Бердяев не называет гностические учения гениальными, а ограничивается эпитетом «глубокий». Однако эта академическая сдержанность в оценке ничего не меняет по сути. В приведенном отрывке Бердяев фактически заявляет, что гностика одаривает Абсолют-Первобожество, а святого, прошу прощения, всего лишь Бог-Творец. И поэтому гностический дар ценнее, ибо он исходит от первоисточника, а не от посредника — демиурга. Рискнем предположить, что Бердяев отчасти завидует дару Бёме получать божественные откровения посредством мистического опыта.
Но, возможно, мы просто неправильно понимаем значение термина «гностицизм» и приписываем Бердяеву совсем не то, что он имел в виду на самом деле. Убедиться в том, что никакой ошибки нет, — несложно.
В феврале 1930 года в Париже, в № 20 религиозного журнала «Путь» вышла статья Бердяева «Из этюдов о Я. Бёме. Этюд I. Учение об Ungrund’е и свободе». (Журнал «Путь» издавался Религиозно-философской академией в Париже начиная с 1925 года, а сама Академия была создана по инициативе Бердяева, он же был редактором журнала.)
Статья Бердяева начинается со слов: «Яков Бёме должен быть признан величайшим из христианских гностиков. Слово гнозис употребляю я здесь не в смысле ересей первых веков христианства, а в смысле знания, основанного на откровении и пользующегося не понятиями, а символами и мифами; знания-созерцания, а не знания-дискурсии. Это и есть религиозная философия или теософия».
Справедливости ради отметим, что знание, основанное на откровении, — это неотъемлемая часть гностицизма. И оговорка Бердяева о христианских ересях — это фиговый листок, который не может прикрыть его глубокого восхищения гностиком Бёме.
Сам Бердяев тут же дает в сноске разъяснение по поводу гностицизма Бёме: «Я считаю неправильным называть старых гностиков христианскими еретиками. Порожденные религиозным синкретизмом эллинистической эпохи — они не столько искажали христианство языческой мудростью Востока и Греции, сколько обогащали эту мудрость христианством». Обратите внимание, что у Бердяева гностики обогащали языческую мудрость, как основное блюдо, в котором христианство оказывается всего лишь приправой. Совсем нетипичный подход для христианского мыслителя, не правда ли?
При этом Бердяев считался верующим, православным человеком, и даже поссорился с Мережковским из-за его учения о неохристианстве, которое являлось попыткой синтезировать язычество и христианство, вернее, обновить последнее. Рискнем предположить, что реакция Бердяева вызвана все же не самой попыткой, а тем форматом, который предложил Мережковский.
Дальше в этой же статье-этюде о Якобе Бёме Бердяев, анализируя его воззрения, пишет: «Но он [Бёме] задавался и более дерзновенным вопросом: как произошла Божественная Троичность, как из Божественного Ничто, из Абсолютного стало возможным творение миpa, как появился Творец, как раскрывалась Личность в Боге? Абсолютное апофатической теологии и метафизики не может быть Творцом мира. Бог — Творец катафатической теологии соотносителен с творением, с человеком».
«Божественное Ничто» Бёме — не что иное, как Абсолют гностиков, то, что стоит выше Бога (Творца). Как видно, за 20 лет взгляды Бердяева не изменились, он по-прежнему восхищен Бёме и очарован гностическими идеями о божественном Абсолюте.
Но если раньше в «Философии свободы» Бердяев говорил, что история порождена первородным грехом: «В основе истории мира лежит зло, первородный грех, до времени совершенный. Этим дана задача истории. Все монады, из которых состоит творение, сами избрали свою судьбу в мире, свободно определили себя к бытию в мире, подчиненном необходимости и тлению», то теперь он, прикрывшись Бёме, как щитом, говорит о конструктивной роли зла!
«Он [Бёме] видел темное начало в самых первоистоках бытия, глубже самого бытия. Он принужден допустить темное начало в самом Божестве, и положительный смысл самого существования зла, которое его так мучило. Но он не впадает в манихейско-гностический дуализм, в двубожие. Без зла добро не может быть познано. Через зло открывается добро».
И далее, «без Бёмевского учения об Ungrund и о свободе непонятно происхождение грехопадения и зла. Падение и зло для Бёме есть космическая катастрофа, момент миротворения, космогонического и антропогонического процесса, результата борьбы противоположных качеств, тьмы и света, ярости и любви. <…> Зло имеет и положительный смысл в возникновении космоса и человека. Зло есть тень добра, свет предполагает существование тьмы. Свет, добро, любовь для своего раскрытия нуждаются в противоположном начале, в сопротивлении. Сам Бог имеет два лика, лик любви и лик гнева, светлый и темный лик».
Хочу обратить внимание читателя: мысль о позитивной роли зла в корне противоречит каноническому христианству, будучи одновременно созвучной тому, что говорил булгаковский Воланд. Напомним, что ключевой концепцией, которую в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Иешуа Га-Ноцри озвучивает Понтию Пилату, является принцип безвластия: «Всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть».
Это в чистом виде мистический анархизм, он же гностицизм, в какой-то степени почерпнутый Булгаковым в учениях и трудах Мережковского, философов Сковороды, Соловьева, Бердяева, Сергея Николаевича Булгакова и других.
(Продолжение следует.)