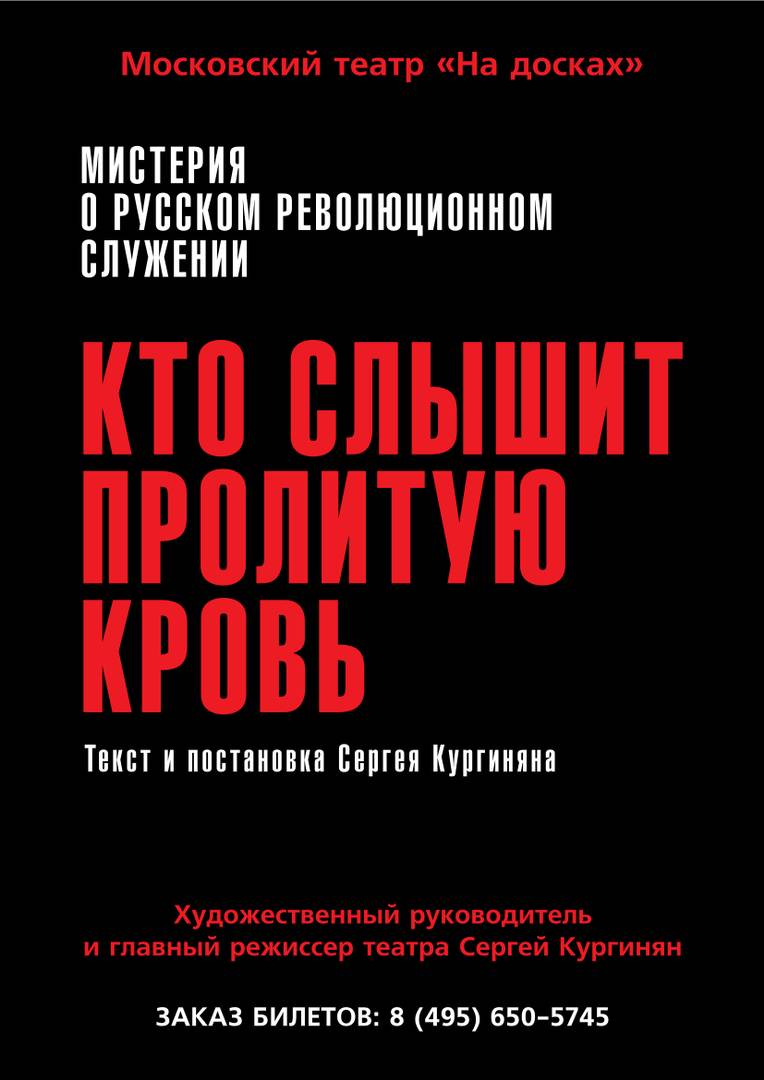СВ: Сергей Феликсович, чем именно для Вас оказался интересен спектакль?
Сергей Черняховский: Ну что ж, блестящий спектакль. Он интересен и тем, что увязан с фигурой Красина, потому что мы порой забываем о том, кто, собственно, создавал большевизм. Большевизм создавали не Плеханов, не Каменев, Зиновьев или Троцкий, а его создавали Ленин, Красин и Богданов — и для них здесь была высочайшая романтика. Вспомним почти религиозное отношение Красина к электрификации и идеи Богданова, связанные с космическими путешествиями, Красной звездой, бессмертием, с созданной им потом системой переливания крови — это с одной стороны. С другой стороны, в спектакле действительно показано соединение романтического и рационального — этакий научный романтизм — соединение строго научного марксизма и человеческого романтизма революции.
Кстати говоря, я не думаю, что марксизм когда-либо отрицал восстание — он отрицал только несвоевременное, непродуманное, стихийное восстание. И здесь вновь ощущается единство этого научного начала с теми глубокими экзистенциальными моментами, когда человек понимает, что без жертвы, без риска для жизни великие цели не достигаются. Вообще, человек, в конечном счете, — это то, за что он умирает. По окончательному счету, человек только тогда человек, когда ему есть за что умирать. Если ему не за что умирать — это животное. И это принципиально.
И здесь крайне важно обращение к теме чаши Грааля, выводящее на одно из положений альтернативного христианства о том, что именно из крови рождалась вера, — и, в свою очередь, выводит на предельные философские или этико-философские смыслы, увязывающие разумность человека, его стремление к самосовершенствованию, и его определенное экзистенциальное начало, требующее действительно бороться за свои идеалы.
Собственно, так оно и было — в конечном счете, в революцию и в Гражданскую войну победили молодость и романтика, которые опирались на приятие марксизма, утверждавшего так называемую поступь истории, понимание прихода истории.
Возможно, вы помните, в «Обитаемом острове» Стругацких, по которому Сергей Ервандович в свое время ставил спектакль (и в некотором виде он и сейчас идет — это спектакль «Изнь»), там в диалоге колдуна и Максима есть рассуждение о том, что совесть своей болью ставит цели, а разум подсказывает пути ее достижения. Надо только, чтобы время от времени горение совести охлаждалось здравым ветерком разума, и чтобы разум не отделялся от совести…
Я смотрел спектакль… сказать «с удовольствием», «с наслаждением» — нет, это не те слова, потому что удовольствие и наслаждение — это что-то сибаритское. Здесь другое. Здесь действительно происходит некое растворение, некое соединение с происходящим, ощущение экзистенции. Лишь когда ты с чем-то соединяешься, понимаешь то, что было, или вспоминаешь то, что было.
СВ: У Вас есть объемные знания, как у историка, а что для вас было неожиданным с художественной точки зрения? В том, что было сыграно и в том, как это было сыграно?
Сергей Черняховский: Скорее в том, как это чувствовалось. В том, как это обращалось, еще раз скажу, к экзистенциальному восприятию — то есть это обращалось не только к историко-научному, а именно к человеческому началу.
Понимаете, я издавна с этим соприкасаюсь, я историком стал потому, что меня интересовала тема революции. Причем первоначально меня увлекли якобинцы. При этом оба моих дедушки — участники Гражданской войны. Один из них был избран делегатом знаменитого III съезда ВЛКСМ, но не попал на съезд, потому что оказался в плену у петлюровцев. А в ночь перед расстрелом голыми руками убил стражу, конвоира и бежал. Я видел на его теле шрамы, полученные в Гражданскую войну. Поэтому для меня-то эти моменты — живые, а уж потом (благодаря им, ради них?) я стал историком.
Якобинцы… Было страшное ощущение горя от того, что они гибнут, затем надежда, когда приходит к власти любимец Робеспьера Наполеон, а потом горечь от того, что побеждает реставрация. И как противовес — мысль: «Но ничего, со временем у нас-то победят большевики!» — это действительно то, чем наполнялась для меня вся история — именно этим началом, которое здесь показано. И причем на протяжении веков.
Вот понимаете, если сейчас пытаться передать словами то, что особенно привлекает в спектакле, они мало что будут отражать, иначе можно было бы сразу садиться и расписывать все на словах. Это передается эмоциями, определенным накалом страсти, восторга, определенным пониманием и чувством того, что ты победишь только тогда, когда готов платить за это своей кровью и силой — силой, которую дает тебе память о пролитой крови. Знаменитые слова «наши павшие как часовые» — это же не только поэзия!
Притом что я, безусловно, — абсолютный материалист, я убежден, что идея, овладевшая массами, действительно становится материальной силой. То есть когда человек помнит, что он делает то, что было дорого его деду, — это тоже материальное начало, это то материальное начало, которое меняет мир.
И еще что очень важно для меня в этом спектакле, я не скажу, что новое, но для меня важно, что это было подчеркнуто, — что революцию делали не люди, которые хотели всё взорвать и все разрушить. Революцию делали люди, которые хотели построить и которые думали о том, чтобы страна стала лучшей в мире. Лучшей не в плане каких-то непонятных вещей, например, большего количества потребляемого мяса, а лучшей в плане того, чтобы она была самой мощной, самой процветающей в плане созидательном. Вот это чрезвычайно важный момент — понимание революции как созидания.
У нас в последние годы по ряду причин, часто вполне осознанно, на место понятия «революция» подводится явление погрома. Так вот, революция — это не погром, революция — это строительство. И это в спектакле еще раз было подчеркнуто, что вся та кровь, всё насилие, которое приходится совершать, — их приходится совершать не потому, что хочется просто кому-то отомстить или наказать, а потому, что приходится преодолевать то, что мешает строить, мешает строительству. И это действительно скреплено жизнью, отчаянием, верой и кровью тех людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы это свершилось.
Иногда говорят: «Всё, что было построено, было построено такой ужасной кровью, зачем это нам нужно?» Если даже предположить, что это так, то тем более из этого надо делать другой вывод: а для чего же это разрушать, если это так дорого стоило? Это надо восстанавливать, хотя бы для того, чтобы быть достойными тех, кто все это совершил!