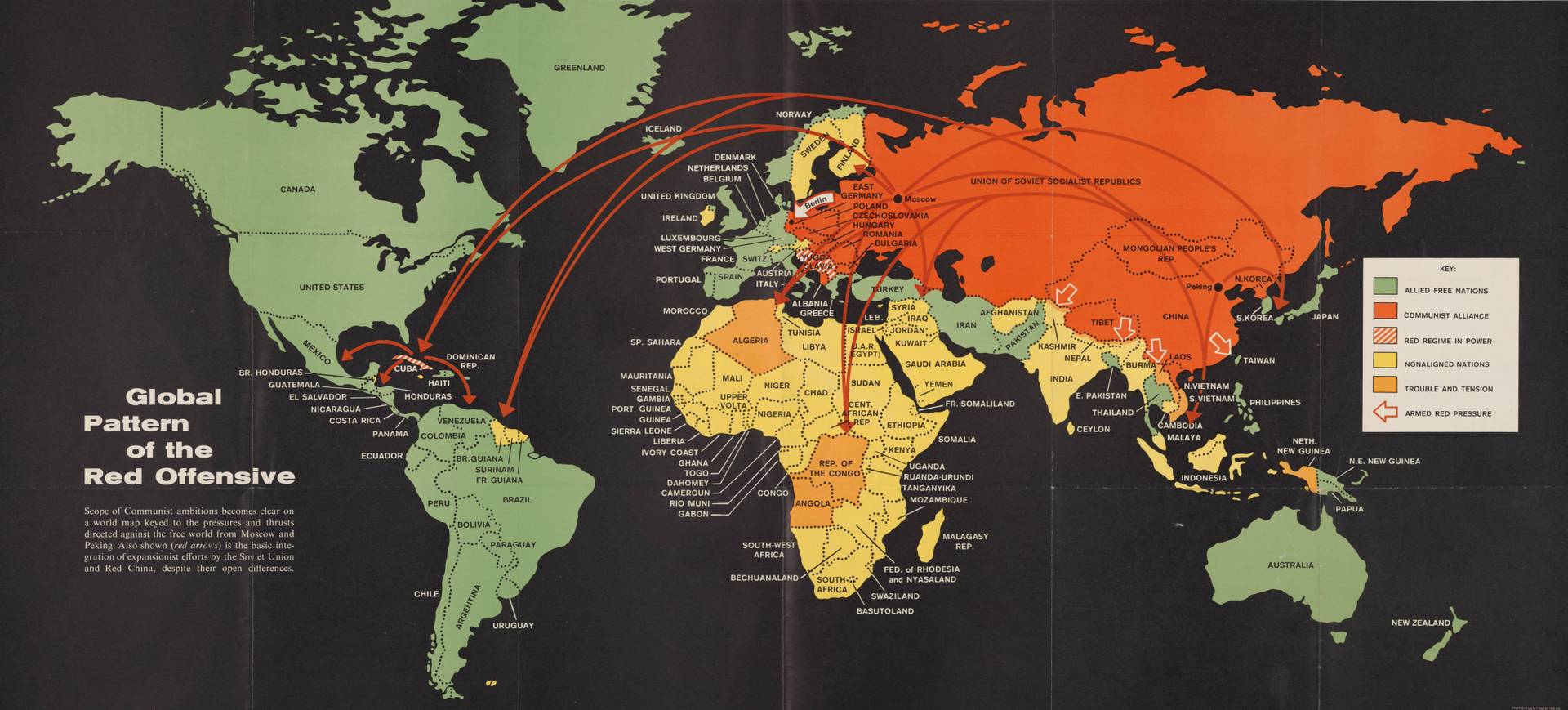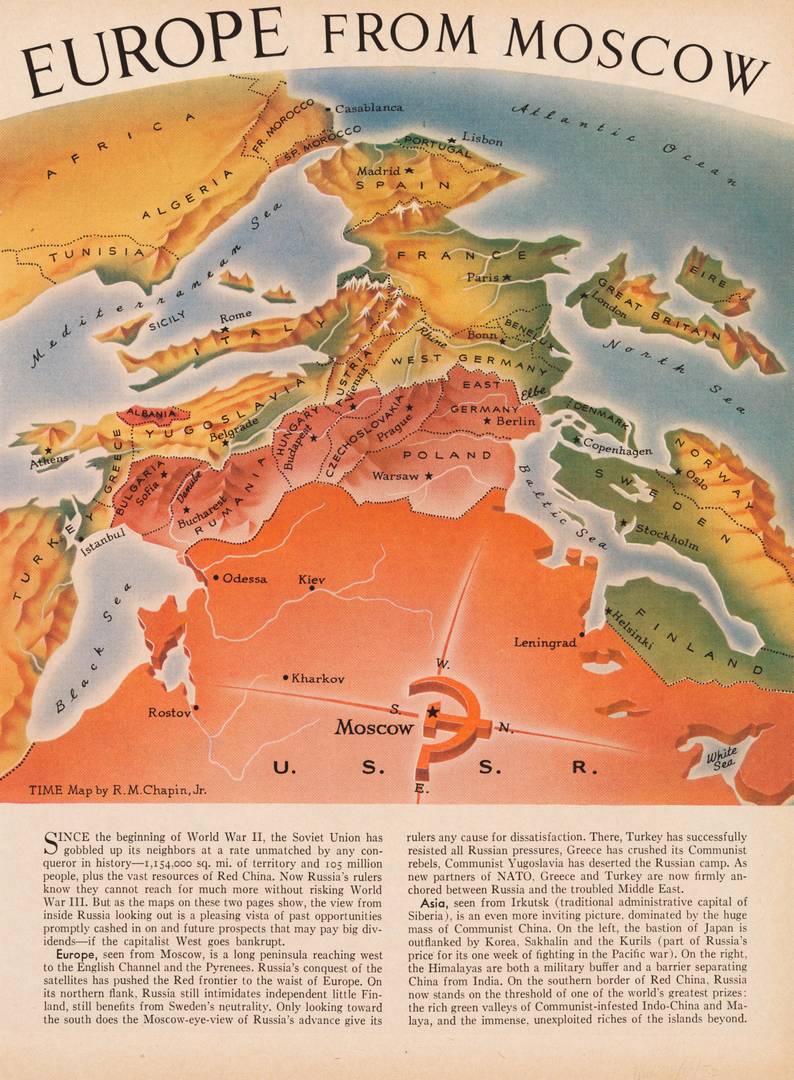
Обсуждая те реальные социокультурные тенденции, которые почти всем, вопреки их реальности, кажутся слишком уж фантастическими («помилуйте, какой культ Кибелы в XXI столетии!»), я просто обязан кратко оговорить те обстоятельства, которые делают возможным этот сброс.
Такие обстоятельства я называю колоссальными утратами, произошедшими у нас на глазах. Нельзя не отдавать себе отчета в том, что все эти утраты порождены крахом советского мироустройства — его и только его. Не было бы этого краха — все разговоры о кибелизме были бы только изящными культурологическими химерами. Но, увы, этот крах налицо. Причем сам он, случившись, породил определенные утраты. А эти утраты запустили такой сброс, при котором никакие размышления по поводу неокибелизма не являются избыточными, чрезмерно усложненными и маловероятными.
Крах — утраты — сброс — бездна, в которую этот сброс волочет, — вот что мы обсуждаем. Это — а не эзотерику античности, предантичной и постантичной эпох.
Описав в общих чертах саму проблему сброса, я должен чуть подробнее остановиться на тех механизмах, которые его запустили, то есть на этих самых утратах. В противном случае мне могут сказать: «То, что для Вас является ужасным крахом возлюбленного советского мироустройства, для нас является благим освобождением, дарующим новые человеческие возможности».
Что на это ответить?
Прежде всего, необходимо сказать, что никаким таким особенным апологетом реального советского мироустройства я никогда не был. Апологетами были советские карьеристы, ставшие оголтелыми антисоветчиками. Я же как раз всегда осознавал связь между крахом этого конкретного советского устройства и теми фундаментальными утратами, которые не могут не породить сброс. Именно утраты и сброс потребовали от меня предельной определенности в вопросе о перестройке, развале СССР, постсоветских безумствах и прочем. Так в чем же эти утраты?
Можно сказать много горьких слов в адрес того советского общественного устройства, которое так позорно обрушилось в ходе так называемой перестройки.
Более того, эти горькие слова нельзя не сказать, потому что это устройство обрушилось. И тут не так уж и важно, было ли это устройство общества предкоммунистическим, как утверждал Хрущев, или просто развитым социалистическим, как утверждал Брежнев. Важно, что оно обрушилось, причем именно позорно.
Противники данного устройства вошли в советское общество, как нож в масло. Общество не сопротивлялось этому вхождению ни в момент, когда это вхождение осуществлялось, ни в момент, когда вопиющие издержки отказа от советского общественного устройства стали совсем уж очевидны. Разве не были они очевидны в 1993 году, когда наука и промышленность были разгромлены, когда произошло вопиющее обнищание огромных человеческих масс, когда полностью была испита горькая чаша геополитических унижений и стали очевидны элитарно-бандитские константы той альтернативы, которая начала строиться, вытесняя собой так называемые маразмы так называемого совка?
Всё это было абсолютно ясно в 1993 году и всё это не встретило сопротивления на уже почти забытом апрельском референдуме 1993 года, когда политика Ельцина не получила должного отпора как минимум, а на самом деле худо-бедно была поддержана отнюдь не только теми, кому новое устройство сулило новые лакомые возможности.
Противники большевиков, заявивших о построении нового общества на обломках Российской империи, сражались с большевиками по-настоящему. Они лили кровь свою и чужую, отстаивая свой антибольшевистский идеал. Они сохранили способность к борьбе за свой идеал в течение всего советского периода. Да, они сильно деградировали в эмиграции и в существенной своей части, что называется, легли под очевидных врагов России. Да, никогда не было никакого единства идеала среди этих противников большевиков, потому что одни хотели какой-то монархии, другие какой-то республики, а третьи — аж какого-то авторитаризма. Но всё равно некая совокупность противников советского общественного устройства продолжала сопротивляться этому устройству в течение многих десятилетий, передавала свои мечты и свою ненависть из поколения в поколение, не смирилась с проигрышем.
Что же произошло со сторонниками советского общественного устройства? Да, Ельцин расстрелял из танков в 1993 году здание Верховного Совета на Краснопресненской набережной (так называемый Белый дом). Это было вопиющим нарушением демократии, провозглашенной самим же Ельциным. И это, конечно же, было проявлением репрессивной полицейщины, которую так охаивали в ее советском варианте и которую в варианте антисоветском благословили сами охаиватели советской репрессивности, доказав тем самым, что вовсе не она мучила их душу при СССР, а иные константы советского общественного устройства.
Но полицейщина при Ельцине по своей мощи и агрессивности не имела ничего общего с тем, что было обрушено на противников советского общественного устройства и в годы Гражданской войны, и в последующем. Ведь и впрямь неловко сравнивать сторонников ельцинской условной полицейщины, которых в 1996 году от лица того же ельцинизма осудил Анатолий Чубайс, сказав о том, что «президент послал в отставку Коржакова, Барсукова и их духовного отца господина Сосковца», — и таких корифеев советской репрессивной охранительности, как Дзержинский или Берия.
Понятно, что противники советского общественного устройства, отстаивая свои проблематичные и размытые идеалы (или же лелея свою ненависть, которую приходится-таки назвать классовой или сословной), выдержали с 1917 по 1987 годы несравнимо большие нагрузки, чем те, под которыми фактически рухнуло большинство сторонников советского общественного устройства.
Понятно также, что и народ фактически не захотел всерьез отстаивать абсолютно реальные и очень значительные завоевания социализма, пусть и в его хрущевско-брежневском варианте, и партия позорно сдала позиции, а отчасти и проявила воистину адскую двусмысленность (как иначе назвать двусмысленность, проявленную Горбачевым, Яковлевым, Ельциным и другими?).
Понятно, что еще большую двусмысленность проявила существенная часть элиты советских спецслужб.
Понятно также, что за советские идеалы не вступились ни армия, ни хозяйственная номенклатура.
И, наконец, понятно, что фантастическую двусмысленность проявила гуманитарная интеллигенция, осуществив и самоизмену, и беспрецедентную по масштабам информационно-психологическую атаку на все константы человеческого существования и на советские константы в первую очередь.
Всё это позволяет утверждать, что советское общественное устройство провалилось полностью, причем провалилось именно позорно. Но есть и то, что можно сказать в пользу этого устройства, признав при этом, что его крушение есть даже не просто огромная утрата, а целая серия колоссальных утрат. Каких же именно?
Утрата № 1 — это утрата некоей реальной огромности.
Необходимо признать, что эта огромность была порождена тем, что на определенном этапе данный тип жизнеустройства проявил фантастическую эффективность и фантастический героизм. И это так же невозможно оспорить, как и то, что на конечном этапе тот же тип жизнеустройства провалился беспрецедентно позорно.
Российская империя, будучи несравненно более огромной, чем нынешняя Российская Федерация, не являла миру той огромности, которую явил Советский Союз и его сложно выстроенная периферия (мировая социалистическая система, антиколониальная система, система так называемых неприсоединившихся государств и т. д.).
Российская империя, которую наши антисоветские государственники сейчас вовсю расхваливают, не являла миру ничего сходного с советским стремительным развитием.
Довольно быстро развиваясь при Александре III, она потом начала развиваться гораздо медленнее — отрицают это только антисоветские пропагандисты.
Даже в пиковые моменты своего развития Российская империя не могла и грезить о втором месте в мире. В фантастическом сне этого второго места не мог увидеть ни Столыпин, ни кто-либо другой. Российская империя находилась то ли на пятом, то ли на шестом, то ли на седьмом месте (тут всё зависит от того, как считать) в ряду развивающихся стран.
Но, как ни считай, очевидным остается то, что эта империя явно проигрывала США, Германии, Великобритании и Франции.
Что она не сумела победить даже с трудом выбравшуюся из феодализма Японию.
Что проявить дееспособность она смогла только по отношению к рушившейся Османской империи.
И что обсуждение соотношения ее мощи с мощью Австро-Венгерской империи увело бы нас слишком далеко от основной темы.
Короче, никакое второе место в мировой экономике Российской империи не светило ни в одном из вариантов ее развития. Тут что Столыпин, что Витте, что кто-нибудь еще — неважно.
Что это означало на практике?
То, что Российская империя не могла сопротивляться объединенным действиям своих основных западных врагов, а должна была как-то лавировать в формирующемся блоковом устройстве.
А СССР смог фактически в одиночку победить фашистскую Германию, создавшую мощнейший блок и обладавшую совсем не тем потенциалом, каким обладала Германская империя в годы Первой мировой войны.
В дальнейшем СССР смог реально сопротивляться всему объединенному Западу. У СССР для этого хватило военных и экономических возможностей, поскольку, повторяю, его каким-то чудесным образом удалось вывести на второе место в мире.
Когда теперь опять говорится о том, что мы должны занять пятое место в мировой экономике (только еще должны и непонятно, как его займем), то вновь возникают все вопросы, которые возникали в годы, когда Российская империя:
- проиграла Крымскую войну 1853–1856 годов;
- была вынуждена слить на Берлинском конгрессе все свои победы в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., которая, казалось бы, просто не могла не кончиться осуществлением мечты про крест над святой Софией;
- проиграла японскую войну 1904–1905 годов;
- оказалась втянута в авантюру Первой мировой войны, обрекая себя этим на окончательный крах.
Не правда ли, поразительное повторение истории:
- отбрасывание сегодняшней РФ со второго советского места примерно туда, где была Российская империя;
- попытка восстановить в этой постсоветской РФ досоветские идеалы Российской империи;
- замыкание кольца антироссийских врагов, сопровождаемое размышлением о том, как бы нам войти в западную цивилизацию;
- крайняя сомнительность российской элиты в плане ее готовности борьбы с Западом;
- социальная высокомерность и тупость этой элиты…
Разве всё это не требует от нас ответственного отношения к советскому общественно-политическому устройству? То есть признания, что позорный крах этого устройства, конечно же, имеет место, но есть и нечто другое. Причем не только романтическая героичность, которая тоже крайне существенна, но и реальная потрясающая эффективность, она же — то русское чудо, о котором с восхищением говорили на Западе во время существования СССР.
Итак, прежде всего советское общество было реальным мировым фактором. Как бы ущербен ни был советский идеал в его хрущевско-брежневском варианте, как бы далек ни был идеал нового человека от превращения в реальный высший государственный советский приоритет, тем не менее нечто, явленное миру в своей антикапиталистической инаковости, существовало. И это нечто простиралось на огромной территории, обладало огромным военным, экономическим, научно-техническим, демографическим, территориальным и иными потенциалами.
Квинтэссенция нынешней ситуации состоит в том, что это всё в описанном мною выше качестве было несомненностью еще 30 лет назад, а вот уже более 20 лет этого просто нет — как ветром сдуло.
Какой крах Римской империи, помилуйте? Он длился достаточно долго, он имел совершенно другой масштаб. Он никогда не был полным, потому что когда рухнула Западная Римская империя, то существовала восточная. Причем в виде чего-то очень могущественного. А когда Восточная Римская империя рухнула, то уже восстановилась Западная Римская империя: и де-юре — в виде Священной Римской империи, и, что еще важнее, де-факто — в виде огромного, могущественного западного мира, явно полагающего себя наследником Древнего Рима.
Итак, всем нам памятен (кому по факту жизни, а кому по рассказам ближайших родственников) некий мир, в котором советское общественное устройство в сколь угодно ущербном его варианте (мещанском, лишенном устремленности к новому человеку, экзистенциально загнивавшем и так далее) было все-таки явлено миру в качестве огромной величины. И эта огромность, конечно, является для нас для всех своего рода травматическим оправданием. Потому что ущербность этой огромности можно было исправить.
А теперь этой огромности нет, и что ты имеешь вместо нее? В качестве реальности ты имеешь относительно небольшую криминально-капиталистическую страну, захлебывающуюся в собственных противоречиях и понимающую, что она сама отказалась от той огромности, и мечту небольшого числа людей о воссоздании обновленного СССР.
Понятно, что ты имеешь гораздо меньше, чем имел. И что невероятно значимо в положительном смысле было наличие этой огромности в прошлом. И столь же невероятно значимо в отрицательном смысле отсутствие этой огромности теперь.
Я написал определенные слова на эту тему. Но никакие слова не могут выразить масштаб утраты, поскольку эта утрата касается, как сказали бы древние греки, не логоса, а космоса. Логос может воссоздать космос, а может и не воссоздать, но отразить он космос может лишь частично. Утрату же в целом надо не столько отражать, сколько переживать. И все, кто ее переживает, понимают, какое значение имеет утрата самой этой огромности.
Если утрата № 1 — это утрата такой огромности, то утрата № 2 — это утрата социальной приемлемости.
Советская жизнь была далеко не так идеальна, как это мнится многим молодым ее нынешним апологетам, но она была социально приемлема.
Невесть в который раз постараюсь объяснить, почему. При этом прошу поверить на слово, что я располагаю очень большим числом примеров такой социальной приемлемости, в каждом из которых присутствует тот или иной советский руководитель, обеспокоенный не своим личным успехом, а каким-нибудь более или менее незатейливым общественным благом. Например, тем, чтобы построить еще несколько детских садов в том сибирском городе, где этот руководитель отвечает за жизненный уровень. Или тем, чтобы построить новое здание для института, причем обязательно соединив учебные корпуса с большим спортивным комплексом. Или — вовлечением молодежи в конструктивные, достаточно сложные интеллектуальные начинания. Или — отстаиванием в своем районе оригинальных молодежных театров. Этих «или» невероятно много, и в каждом из них есть что-то, кроме заботы о собственной — сугубо личной и сугубо шкурной — успешности. Большое число советских руководителей не было зациклено на себе. И уж тем более не было зациклено на таком типе своего благосостояния, которое хочешь не хочешь, но приходится назвать воровским.
Я не хочу сказать, что таких людей в постсоветской России вообще нет. Потому что если бы их не было, то не было бы и России, пусть и той, ущербность которой несравненно больше, чем ущербность СССР. Но таких людей в постсоветской элите несравненно меньше, чем даже в элите позднесоветской, и их с каждым десятилетием становится всё меньше.
А ведь дело не только в людях, но и в типе жизни, который эти люди считали одновременно и лично, и общественно значимым. И он реально был таковым. Он был гораздо менее зверино-оргиастическим, гораздо более социально разумным, гораздо более духовным при всей своей позднесоветской мещанскости. А, главное, он обладал каким-то обновительным потенциалом, причем достаточно внятным.
Конструктивная обновительность опиралась на существенные слои советского общества. Нужна была перестройка, чтобы направить эту обновительность в деструктивную сторону. Но в конце 1970-х не было ясно, на какие макросоциальные группы можно опереться в этой конструктивной обновительности (например, на научно-техническую интеллигенцию при всей ее небезусловности, а также на часть классического рабочего класса и классического колхозного крестьянства, а также… также… также…). Теперь мне совершенно не ясно, на что можно опереться в макросоциальном смысле. На сомнительную массовую ностальгию по советскости, которая, что греха таить, имеет существенно потребительский характер? То есть на ностальгию по тому, что именуется гуляш-коммунизмом? Но можно ли на это опереться? И можно ли реализовать подобный запрос, притом что он носит именно потребительский характер?
Советский потребительский брежневизм опирался на предыдущие отнюдь не потребительские советизмы с их реальной жертвенностью, реальным трудовым усилием, реальным романтизмом. Получить относительно комфортный в потребительском плане брежневизм можно было, только смягчая и омещанивая предшествующее. Как его получить, если предшествующего нет? И разве в массовом плане неосоветская ностальгия содержит хоть какой-то реальный запрос на нечто предшествующее советскому потребительству в духе Брежнева? Полно!
Азиатский (шире — незападный) социализм опирался на национально-освободительную борьбу, выход из колониальной бедности, неизжитую традиционалистскую общинность. Плюс — копирование СССР как лидера мирового социалистического движения.
Западный (восточноевропейский) социализм был, что греха таить, существенно навязан Советским Союзом и представлял собой стремление к максимуму обуржуазивания, допускаемому советскими кураторами.
Единственный реальный, автохтонный самодостаточный государственный социализм существовал в СССР. И он являл собой пусть и несовершенный, но очень оригинальный образ жизни. В этом образе жизни реально существовало другое место для культуры. В нем реально имела место глубокая взаимная приветливость, в нем существовали зачатки настоящего коллективизма, стяжательность в нем не рассматривалась как нечто благое и самоочевидное, социальные лифты не были вопиющим образом перекрыты, потребительство еще не превратилось в альфу и омегу человеческого бытия и могло быть преодолено за счет небольших поворотов государственного руля.
Всё это и есть колоссальная утрата № 2.
Мы — причем не только те, кто этим обладали, но и всё человечество — утратили не только огромность чего-то альтернативного буржуазному мироустройству. Мы утратили и социальную приемлемость этой огромной альтернативности, а также ее открытость разного рода позитивным изменениям. Мы утратили социальную опору для подобных антипотребительских изменений, социально значимую культурную почву для этих изменений, макросоциально значимый тип личности, способный формулировать и осуществлять запрос на эти изменения, и многое другое. Повторяю, это утратили и мы, советские граждане, и мир. Мы не идеал утратили, размещенный в отдельных умах, мы утратили огромную, очень несовершенную, но лишенную абсолютной безблагодатности, реальность, сотворенную с колоссальными жертвами. Вот что такое сумма утрат № 1 и утраты № 2.
Но есть еще и другие очень существенные утраты.
Утрата № 3 — это утрата мироустроительного баланса. У того, что называлось мировой капиталистической системой, был какой-то оппонент в виде мировой социалистической системы. Я уже попытался описать какие-то небезблагодатные свойства этого оппонента. Но, разбирая утрату № 3, я хочу сосредоточиться даже не на этих свойствах, а на самом балансе. Мировой капиталистической системе что-то противостояло.
Это, во-первых, как-то сдерживало хотя бы самые худшие, совсем уж безблагодатные импульсы, исходившие из существа этой самой мировой системы капитализма.
И это, во-вторых, требовало от мировой системы капитализма демонстрации миру чего-то, противоречащего совсем хищному и совсем безблагодатному естеству этой системы. Образно говоря, эта система не могла совсем распоясаться и выявить свое звериное античеловеческое существо. После утраты мироустроительного баланса мировой капитализм занялся именно этим. Нам оказался явлен образ чудовищного хищника, который вдобавок стремится сделать именно нас своей первой жертвой.
Участвуя в телевизионных передачах, посвященных украинской проблематике, я прекрасно отдаю себе отчет в том, почему мои украинские оппоненты обладают, мягко говоря, многосторонней ущербностью. Но, понимая всё это, я не могу не ощущать и наличие натуральных, независимых от разносторонних политических запросов источников подобной ущербности.
Один из таких моих украинских оппонентов, обсуждая эскалацию бандеризации Украины на государственном уровне, заявил, что эта эскалация порождена запросом со стороны украинских олигархов. Что эти олигархи управляют Украиной, наплевав на мнение всего остального общества. Что суть буржуазного устройства жизни именно в таком олигархическом наплевательстве. И что бандеровский запрос украинских олигархов порожден запросом со стороны их глобальных хозяев.
Ничего подобного не могло быть сказано не только двадцать, но и десять лет назад. На мой вопрос: «Вы тем самым явным образом утверждаете, что глобальная олигархия нацифицирует Украину в бандеровском ключе для нападения на Россию?» — мой оппонент промолчал. А ведущий поразмышлял на тему о том, что напрямую мой оппонент так сказать не может, и что его неспособность сказать это напрямую являет собой нечто особо скверное.
То, как именно мировой капитализм распоясался, мы наблюдаем повсюду: и на Балканах (в Сербии), и на Ближнем Востоке (в Сирии, Ираке, Афганистане), и в Африке, и в Латинской Америке. Но ведь и на Украине тоже! А также много еще где (в той же Прибалтике, например, на Кавказе). Но разве внутри ядра системы мирового капитализма не происходит того же самого? Разве там не обнажается беспощадная хищная воля к мировому силовому доминированию? Она ведь в эпоху баланса и сдерживалась извне, и внутренне (это очень важно!) сама себе ставила определенные ограничения как морального, так и иного свойства.
Теперь эти ограничения (они же — табу, порожденные наличием баланса) полностью сняты. Такой процесс называется растабуированием, растормаживанием сдерживаемых импульсов. Любому специалисту понятно, что при таком растабуировании, порожденном утратой № 3, мы лишены каких-либо надежд на мирное, стабильное существование, регулируемое какими-то пусть и эластичными правовыми нормами и ориентированное на обеспечение устойчивости какого-то культурного, геополитического, экономического, социального и иного порядка. Пусть даже и очень ущербного, но порядка.
Разговор о порядке, пусть даже и насыщенный очень сомнительными адресациями (что может быть сомнительнее адресации к нацистскому по своей сути новому мировому порядку?), снят с повестки дня полностью. На повестку дня поставлен разговор о новом мировом беспорядке, о благе хаоса, об управляемом хаосе, о необходимости хаотизации (она же — пресловутая турбулентность).
Утрата № 3 — это утрата каких-либо надежд на мир, на отсутствие вопиющих форм грубого силового доминирования, на правовые регуляторы, на обеспечение миропорядка, внутри которого, если речь идет о порядке, не может не быть тех или иных социальных, культурных и иных табу.
В советский период речь шла о мирном сосуществовании, о необходимости вообще бороться за мир. И сколько бы ни было ущербности в этих разговорах, в них было и другое. В них была готовность обеспечивать миру некое приемлемое существование. Готовность обеспечивать миру непревращение сколь угодно ущербного социума в «зооциум», регулируемый только правом сильного и волей к власти. Теперь мы утратили эту готовность и примирились не только с бомбардировками в Африке, на Ближнем Востоке и на Балканах, но и с бомбардировками Донецка или Луганска. И все мы понимаем: это только начало.
Утрата № 4 — это утрата каких-либо упований на человеческое восхождение.
Эти упования были связаны с советской идеей нового человека. Причем не просто с такой идеей, а с тем, что коммунизм есть ее воплощение на практике. Светскому человечеству (а оно в ХХ веке стало безусловным большинством) было обещано то восхождение к новому человеку, которым светский гуманизм заменил религиозное восхождение к Богу. Буржуазный светский гуманизм, как я уже говорил, поддерживался только подпоркой в виде гуманизма советско-коммунистического. Этот гуманизм был превращен в «гуляш-коммунизм» Хрущевым, но оставался в виде резервной альтернативной возможности. Причем возможности, укорененной в огромной советско-центричной реальности. Вместе с крахом этой реальности произошел и крах этой возможности. Значит, на уровне чего-то сильного, большого, реального, вселяющего надежды именно в силу своей реальной огромности, произошла и эта утрата.
Но она для большинства человечества означает утрату основополагающей благодати под названием «восхождение», а значит, переход к совсем безблагодатному существованию. А что такое совсем безблагодатное существование? Это ад на земле. Если для религиозного человека этот ад имеет потустороннего хозяина, то для человека светского интуиция такого ада должна черпать энергию из каких-то светских источников, из какого-то социального, политического, экзистенциального опыта. А что такое этот опыт для человечества вообще и светского в особенности? Ведь в случае светского человечества мы имеем дело только с посюсторонним, «здешним» (имманентным) опытом, то есть с историей как таковой. Ну и каков же этот исторический опыт? Конечно, он связан с нацизмом.
Утрата № 4 — это утрата реальных гарантий ненацистского будущего. А поскольку нацистское будущее — это ад на земле, то и светское, и религиозное человечество ощущает утрату надежды на дееспособный Катехон, то есть удерживание человечества от конца света и прихода Антихриста.
Сброс, который мы должны обсудить, перед тем как перейти к финальному этапу наших исследований гуманизма и коммунизма, оказался возможен именно в силу подобных утрат. Они этот сброс, так сказать, запустили. Так запускают в горах сход лавины. Но, обсудив запускающий механизм, мы должны обсуждать далее и то, что запущено, то есть сам этот сброс.
Обсуждая масштаб утрат, я настойчиво пытаюсь сфокусировать внимание читателя на том, что утрачено было нечто, существующее в реальности в виде чего-то могучего и огромного.
Может быть, это могучее и огромное было ущербно в силу своей идейной незавершенности. И вполне возможно, что эту идейную незавершенность можно преодолеть, создав вместо существовавшего ущербного, недовыявленного советского коммунизма с его гуляшизмом, то есть потребительством советского типа, с его несфокусированностью на всем, что связано с новым человеком, — новый коммунизм, он же — коммунизм 2.0. Но преодоление идейной ущербности вовсе не означает автоматического возникновения новой огромной, более совершенной красной реальности, которую мы называем СССР 2.0.
При всей важности идей не существует и не может существовать их автоматического воплощения в жизнь. Известная присказка «что нам стоит дом построить, нарисуем — будем жить» на самом деле не имеет никакого отношения к советской песне, которая начинается с этого самого «Что нам стоит дом построить». Потому что в советской песне говорится:
Что нам стоит дом построить
Просто вырыть котлован,
А потом приладить рельсы,
И пустить по рельсам кран.
И в хорошую погоду
Провести тепло и воду.
И только потом
Начать и кончить новый дом.
То есть на самом деле в советской песне говорится о том, что дом построить очень трудно. Но можно, если засучить рукава и задействовать соответствующие возможности. Строительство СССР 2.0 гораздо сложнее, чем строительство любого нового дома, да и чего угодно на свете. И даже если считать, что у нас есть в распоряжении чертеж, то есть нечто нарисовано, то между этим нарисованным и реальным домом — почти непреодолимая пропасть. Да, она почти непреодолима, а не на 100% непреодолима. Но ведь это «почти» требует очень правильного к себе отношения: настроенности на предельные усилия, на отчаянное несоответствие между твоим рисунком и реальностью.
Сила СССР была в том, что это был не нарисованный, а построенный дом. Причем огромный и многообещающий. Пообещав его перестройку, этот дом просто обрушили. И теперь его нет как нет. Но ведь строили этот дом не по принципу легкого воплощения некоего идеологического рисунка под названием «коммунизм». Его строили титаническим жертвенным усилием сотен миллионов людей. Побудить эти сотни миллионов людей вновь на подобные жертвенные титанические усилия, преодолеть сопротивление могучих сил любой попытке осуществления подобных усилий — вот что такое «почти невозможность» построения нового дома.
И вот что такое ужасная утрата в виде потери дома, существовавшего в реальности и именовавшегося классическим советским общественно-политическим устройством.
Утрата этой реальности оказала колоссальное воздействие не только на потерявших этот дом советских людей, но и на всё человечество. Когда мои знакомые обсуждали с Фиделем Кастро новые отношения Российской Федерации и Кубы, ссылаясь на отношения, существовавшие в советский период, Фидель сказал: «Советский Союз был чем-то неслыханно великим, святым и почти божественным. Это было чудо, явленное нам во плоти». Потом он выдержал паузу и продолжил: «Но это чудо уже не существует. И никто нам его не вернет. Поэтому давайте обсуждать деловые отношения между нашими странами и определять, по какой сугубо рыночной цене мы вам будем поставлять те или иные сельскохозяйственные продукты. И давайте при этом обойдемся без ссылок на советский период».
Поскольку люди, которые мне это рассказывали, были в близких отношениях с Фиделем Кастро, то у меня нет никаких оснований не верить им. Тем более что реальное отношение Фиделя Кастро к России в постсоветский период вполне соответствовало тому, что мне рассказали мои знакомые, а я только что поведал читателю.
Утраты, порожденные исчезновением реальности под названием Советский Союз и советское общественно-политическое устройство, ужасны именно потому, что речь идет об утратах, связанных с исчезновением чего-то огромного, реального и почти невосстановимого. И большинство человечества исходит из того, что речь идет об утрате, которая не «почти невосстановима», а «невосстановима на 100%».
Да, несколько раз утрачивался и восстанавливался Великий Китай.
Да, Древний Рим, утрата которого переживалась западным человечеством на протяжении многих веков как неописуемый ужас, в каком-то смысле потом был вновь обретен при создании Священной Римской империи.
Да, древний Израиль был стерт с лица Земли, еврейский народ, создавший это государство, был разбросан по всему свету, но прошло около двух тысяч лет и нечто восстановилось вопреки всем разговорам о невозможности такого восстановления.
Да, многие белогвардейцы вначале впали в полное отчаяние при крахе любимой ими Российской империи, а потом узрели, как Феникс этой любимой ими империи воскрес из праха в виде СССР и в какой-то степени признали ненавидимую ими Советскую власть именно по причине такой ее «домовосстановительности».
Если бы всего этого не было, то разговор о восстановлении СССР в виде СССР 2.0 был бы абсолютно беспочвенным. Но это всё было. И всё это было надрывными осуществлениями великих жертвенных исторических деяний. Осуществлениями, потребовавшими огромных жертв от огромных исторических масс.
Поэтому давайте не приуменьшать горечь утраты реальности, сколь бы ущербной она ни была. И давайте не преувеличивать легкость обретения утраченного. Обретать утраченное будет страшно тяжело. Такое обретение почти невозможно. И потому утрата советской реальности — именно как великой реальности — невероятно остро была воспринята как теми, кто ориентировался на эту реальность, так и теми, кто ее ненавидел.
Мир утратил советскую реальность — и началось то, что породила эта утрата.
Началось ликующее безумство американцев.
Начался основанный на этом ликующем безумстве демонтаж всех геополитических, социальных, культурных и антропологических констант предшествующего мироустройства.
Сравнение СССР и советского коммунизма с огромным домом, который удалось не только нарисовать, но и построить, лишь в первом приближении описывает произошедшее.
Потому что обычный дом — это сложная, но механическая конструкция. А СССР и советский коммунизм были не мертвым домом, населенным живыми людьми, а своеобразным симбиозом живого дома с живыми же людьми, жизнь которых была не чем-то отдельным от дома, а органическим продолжением жизни этого дома. Сам дом был живой. Его жители были живыми. Живой дом и его живые обитатели составляли одно органическое целое.
Даже обрушение обычного дома, дома как механической конструкции, создает огромные проблемы. Потому что его жителям приходится обустраиваться на пустыре.
Но обрушение СССР и советского коммунизма было не таким механическим обрушением, порождающим колоссальные проблемы, а смертью сложного живого «домочеловеческого» организма.
Этот организм ведет себя после смерти совсем не так, как механическая конструкция.
Обломки обычного дома валяются, очень медленно вовлекаясь в те или иные циклы метаморфоз (от обычных природных до геологических).
А труп на то и труп, чтобы разлагаться и насыщать среду соответствующими ядами.
Мировой капитализм, страдавший от того, что он сосуществует со своим советско-коммунистическим антагонистом, обрадовался смерти этого антагониста, отрекомендовал себя в виде его убийцы (он же — победитель в холодной войне). Не успел он этому обрадоваться, как начались чудовищные корчи капитализма.
Мне скажут, что в капитализме нет ничего хорошего и что поэтому можно лишь возликовать по поводу тех корчей, которые являются предвестниками конца капитализма.
Я полностью согласен с тем, что в капитализме нет ничего хорошего. Меня, кстати, Маркс впечатляет именно глубиной особой аналитики этой самой абсолютной нехорошести капитализма. Эта аналитика пронизывает всё творчество Маркса. По сути, нет никакой разницы между его тонкими рассуждениями о капитализме как источнике духовной смерти человечества, порождаемой окончательным отчуждением человечества от своей родовой сущности, осуществляемым этим самым капитализмом, и яростными пропагандистскими пророчествами коммунистического Манифеста, которые я воспроизведу еще раз: «В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость…»
Уникальность Маркса в том, что он одинаково гениален в качестве площадного проповедника и в качестве кабинетного мыслителя. Какой-нибудь Савонарола, бичевавший итальянские возрожденческие пороки в XV столетии, был гениален в качестве проповедника. А блаженный Августин или Фома Аквинский были гениальны как мыслители почти келейного типа. Маркс же сочетает в себе, образно говоря, Савонаролу и Фому Аквинского. Такие сочетания в истории человечества буквально наперечет.
Итак, я полностью согласен с Марксом, что капитализм завершает отчуждение от человечества трудовой сущности, топит человечность всю целиком в ледяной воде эгоистического расчета и потому отвратителен, губителен и так далее.
Не согласен я в другом. И это мое несогласие, увы, носит не полемический, а констатационный характер. Я не согласен с Марксом в том, что после капитализма с неминуемостью или почти неминуемостью наступает коммунизм.
Маркс, кстати, в полном согласии с религиозной традицией, которую он формально отвергал, исповедует принцип предельного сгущения тьмы, порождающего некую очистительную грозу.
Капитализм для Маркса был таким предельным сгущением тьмы, а коммунистическая революция — той очистительной грозой, которая столь же неминуема, как и сгущение тьмы.
Капитализм порождает грозу, гроза порождает очищение.
Коммунистическая революция в России, казалось бы, полностью подтвердила такую эсхатологическую, по своей сути, марксистскую логику. Мол, вот оно, предельное сгущение капиталистического кошмара в виде Первой мировой войны. А вот она, советская очистительная гроза, порожденная таким предельным сгущением.
Но мы же живем не в первой половине XX века, когда то, что нам явлено, совпадает с подобной логикой. Кстати, пришествие нацизма уже вносит в эту логику определенные коррективы. Но можно было попытаться свести эти коррективы к тому, что предельным сгущением капиталистической тьмы была не Первая мировая война, а нацистская пакость. И что следом за этим сгущением возникло очищение в виде советского знамени над Рейхстагом.
Мы живем в XXI веке. И мы видим нечто, гораздо более мрачное, чем марксистское описание губительности капитализма.
Утрата № 5, без понимания которой трудно ориентироваться в современном мире, состоит в том, что мы утратили не только коммунизм, который нам дорог, но и капитализм, отношение к которому у нас ничуть не отличается от того, которое сформулировал Маркс. Да, капитализм ужасен. Но…
Но труп дорогого для нас СССР и коммунизма был не просто откинут на историческую обочину. Этот труп стал разлагаться, заражая трупным ядом не только, что ориентировалось на живой СССР и живой советский коммунизм, но и то, то что отрекомендовывало себя в виде убийцы СССР и советского коммунизма и ликовало по поводу того, что это убийство было осуществлено.
После конца советского коммунизма наступил конец как минимум всего западного капитализма. А в общем-то — и капитализма как такового. В том, что капитализм, наращивая свои внутренние противоречия, умрет, Маркс был прав. Но по факту он оказался неправ в другом — в том, что смерть капитализма станет прологом к коммунистической очистительности.
Капитализм умер. Он умер весь и целиком. Он не перешел в новую фазу — ультраимпериалистическую или другую. Он просто взял и умер. Моя интеллектуальная интуиция, которой я доверяю, подсказывает мне, что он заразился именно трупным ядом советского коммунизма, с которым так яростно боролся, и умер именно в силу этого. Но пусть я неправ, и он умер в силу чего-то другого — ясно же, что он умер, и что мы живем фактически в посткапиталистическом обществе.
Может быть, в Азии или в позднооскоромившейся капитализмом России можно найти что-то похожее на капитализм. Но называть капитализмом власть каких-то странных фондов, в которых максимальный пакет акций составляет два-три процента, согласитесь, как-то странно. Столь же странно называть капитализмом растущую опухоль финансовых деривативов. Или оргию насаждаемого извращенчества.
Мы живем в эпоху не только «после коммунизма» (имея в виду советский коммунизм как единственно реальный), но и в эпоху «после капитализма». Я не знаю, восстановится ли коммунизм, но капитализм точно не восстановится.
На вопрос о том, что такое это самое «после капитализма» (оно же — посткапитализм), я могу ответить с достаточной степенью определенности. Этот самый посткапитализм как раз и представляет собой настоящее царство золотого тельца. Капитализм же подобным царством еще не был. Да, он подготавливал пришествие золотого тельца, но он его только подготавливал. Теперь телец пришел и молятся ему пока что не в особых храмах этого самого тельца, а в супермаркетах и на извращенческих оргиях. В общем-то, вся сегодняшняя жизнь есть такое поклонение золотому тельцу. И это не капиталистическое, а посткапиталистическое поклонение.
Я уже обращал внимание читателя на странную концепцию, согласно которой Моисей по поручению египетского жречества (этакого надиудейского предиктора) водил сорок лет евреев по пустыне, чтобы они стали поклонниками золотого тельца и в виде этих поклонников овладели мировыми финансами, опять же, действуя по поручению этого египетского жреческого протектора, сделавшего ставку на Моисея.
Моисей боролся с культом золотого тельца — это неопровержимый факт древнееврейской истории. Моисей не посвящал евреев в культ этого тельца, а убивал их за поклонение тельцу.
Гениальный Маркс не только ошибся в том, что касается содержания посткапитализма. Он ошибся еще и в трактовке еврейского вопроса. И понятно, почему: потому что он сам был евреем, пусть и из семьи, перешедшей в протестантизм. И потому ему было особо нестерпимо наблюдать еврейскую золототельцовость, которую он назвал духом капитализма.
На самом деле — и об этом говорит вся древняя история — есть два еврейских народа и даже два еврейских жречества.
Одно — неистово антительцовое, собственно моисеево. Это, повторяю, касается и народа, и жречества. Классический моисеевский иудаизм носит яростно антительцовый характер. Причем ни в одном народе мира нет такой антительцовой страстности и окончательности, как в еврейском народе, принявшем моисеевский иудаизм именно как отвержение тельца.
Но если одна часть еврейского народа особо яростно отторгала тельца, то другая особо яростно отторгала это отторжение. Один народ внутри еврейского народа оказался особо антительцовым, а другой особо протельцовым.
Тот сброс, который мы рассматриваем, фактически поставил крест на антительцовскости в ее иудаистическом варианте. Иначе не было бы гей-парадов в Израиле, да и многого другого.
В том-то и дело, что сброс нанес страшнейший, а возможно, и смертельный удар по классическому иудаизму как (внимание!) квинтэссенции антительцовости. Соответственно, этот же сброс ударил и по христианству, вобравшему в себя ту же антительцовость.
Ударив по антительцовости, сброс воскресил культ тельца. Этот культ пришел на место капитализма, который, как мы знаем, был не чужд и протестантской строгости, и фордовско-крупповской созидательности, и того «бремени белых», которое воспевал Редьярд Киплинг. Хороши они или ужасны — не важно. Важно то, что они по определению имеют антительцовый характер. Что они адресуют к моральной строгости, к сильной семье (а как иначе наследовать капитал?), к сильному государству, к какому-то духу служения, преодоления, к какому-то сверхусилию, к какой-то формуле спасения от духовной смерти. Где это всё?
Этого уже нет. Это всё уничтожено сбросом.
А золотой телец не уничтожен. Он ликует, потому что антительцовое моисеевское начало уничтожено. А если оно уничтожено, то всегда ему оппонировавший телец триумфально восходит. Ну так он и восходит во всей своей гедонистичности, извращенческой оргиастичности, аморальности и так далее.
Сначала — смерть советского коммунизма.
Потом — смерть капитализма и его религиозных предтеч (моисеева иудаизма, христианства и так далее).
Потом — триумф золотого тельца.
Кстати, обо всех этих фантазиях по поводу надиудейского египетского жреческого предиктора. Древний Египет таит в себе очень темные ужасы. Но настоящий культ золотого тельца — это не Древний Египет, а его фундаментальный оппонент — Древняя Финикия.
И если уж на то пошло, то торжествует не древнеегипетский, а древнефиникийский дух. И торжествует он достаточно системно, в том числе и через прославление хаоса. Именно на нем базировалось финикийское представление о мировом господстве, унаследованное карфагенянами. И неслучайно сейчас американцы, ошалевшие от краха советского коммунизма, прославляют именно новый мировой беспорядок, то есть хаос.
Прославление хаоса…
Провозглашение конца истории…
Провозглашение конца гуманизма и человека…
Провозглашение конца права и государства…
Провозглашение конца эпохи не только правды, но и правдоподобия…
Провозглашение бесконечного приоритета денежного количества над любым качеством…
Провозглашение конца морали и триумфа извращенчества…
Всё это и многое другое есть, по сути, утверждение посткапиталистического царства золотого тельца, царства еще более темного, чем сам ужасно темный капитализм. Но можно ли и эту тьму именовать окончательной?
(Продолжение следует.)