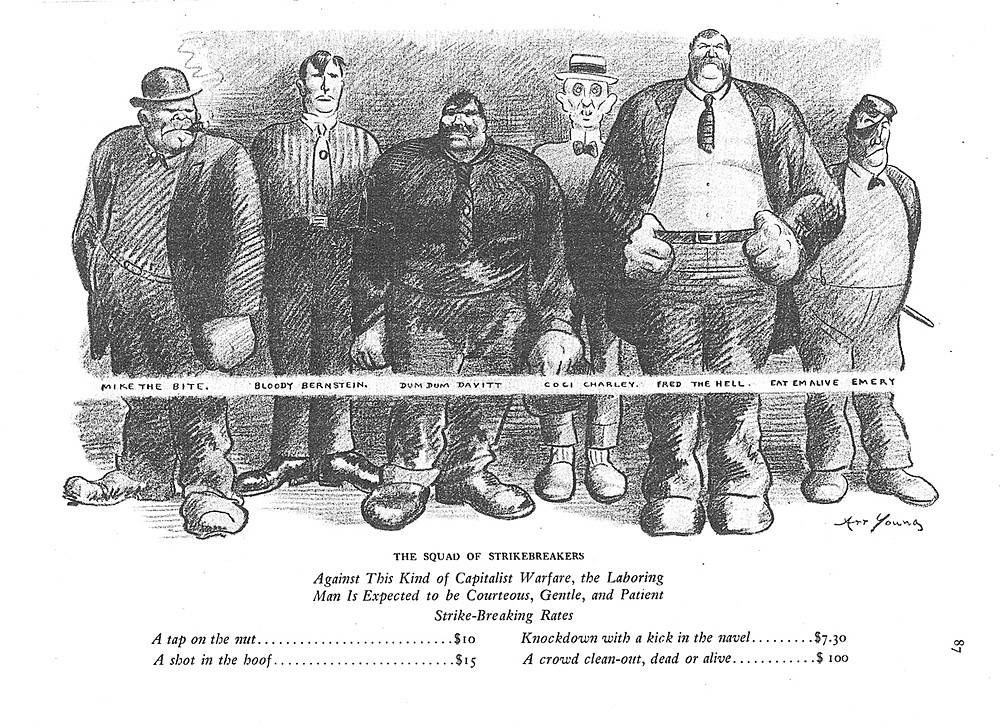
Маркс цитирует книгу Мари Ожье «Du Credit Public», изданную в 1842 году. Книга эта совершенно неизвестна современному читателю, но и в эпоху Маркса она не была особо популярна. Почему же Маркс ссылается на Ожье? Потому что Маркс категорически не хочет оставаться в гордом интеллектуальном и моральном одиночестве. А почему он не хочет этого? Потому что ему чужда роль пророка, творца уникального антибуржуазного откровения. Маркс очень ценит возможность находиться в некоем условном интеллектуально-политическом антибуржуазном сообществе. Пусть даже члены этого сообщества очень давно ушли в мир иной, пусть даже они не разделяют взглядов Маркса и, наконец, пусть даже они не ахти какие интеллектуальные великаны. Всё равно — быть в их сообществе для Маркса намного привлекательнее гордого интеллектуального одиночества. Поэтому Маркс сначала ссылается на Ожье, утверждавшего, что деньги «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке», а потом противопоставляет свою оценку — оценке Ожье. Он как бы говорит читателю: «Видишь, не я один настроен определенным образом против денег. И такие-то, и такие-то настроены так же. Просто я в этой компании занимаю определенное место».
Оговорив наличие компании, Маркс определяет свое место в этой компании. И говорит о том, что, в отличие от Ожье, он, Маркс, считает, что «новорожденный капитал» не с пятнышком на щеке рождается, а «источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят». То есть является тяжелейшим из всех заболеваний, которые преследовали человечество на протяжении всей его истории.
Сославшись на Ожье, стоявшего на такой же «деньгофобской» позиции, как он сам, Маркс далее отсылает читателя к высказыванию Томаса Джозефа Даннинга (1799–1873), британского профсоюзного деятеля и публициста. Маркс оговаривает при этом, что именно Даннинг, а не он, Маркс, сказал нечто очень существенное по поводу свойств капитала. Эта оговорка не мешала начетчикам от марксизма приписывать самому Марксу то, что Маркс оговаривает в качестве принадлежащего не ему, а Даннингу. Что же именно сказал Даннинг?
Даннинг сказал о том, что (привожу отсылку самого Маркса, сделанную в «Капитале») «капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами».
Маркс не просто ссылается на Даннинга, он предлагает читателю ознакомиться со статьей Даннинга, напечатанной в журнале «Quarterly Review», очень влиятельном периодическом литературно-политическом журнале, издававшемся на протяжении всего XIX и половины XX века. Но на протяжении всей советской эпохи, когда советских школьников и студентов в обязательном порядке приобщали к марксизму, те, кто приобщал, ничтоже сумняшеся утверждали, что Маркс сказал то, что на самом деле сказал Даннинг. На вопрос «кто сказал про триста процентов?» советский студент должен был отвечать «это сказал Карл Маркс» и получать пятерку за правильный ответ.
Почему я знакомлю сегодняшнего постсоветского читателя с такими деталями?
Во-первых, потому что они мне представляются существенными сами по себе.
Во-вторых, потому что эти детали сообщают нам нечто важное о настоящем Марксе, страшно далеком от того, что соорудили марксистские начетчики в виде образа «гениального, непогрешимого пророка, чуждого деликатности, щепетильности, научной ответственности, уважению к культуре...» А зачем «всё это» нужно пророку? Тем более что всё это явным образом не нужно начетчикам. Ну так вот...
Может быть, «всё это» не нужно пророку. И уж точно, что оно не нужно начетчикам. Но Марксу, как мы только что убедились, «всё это» очень и очень нужно и для диагностики заболевания под названием «капитализм», и для лечения этого заболевания.
Марксу очень нужно иметь под ногами максимально широкую и прочную опору в виде культуры — античной и современной, общей и политической. Пророку это не нужно, он готов находиться в гордом одиночестве и парить в бескультурной невесомости — ему так даже сподручнее. Но это только еще и еще раз доказывает, что Маркс не пророк, а интеллектуал, не готовый сводить свой интеллектуализм только к диагностике исследуемого общественного заболевания.
И, в-третьих... в-третьих, я не могу забыть того, как всё марксистско-коммунистическое функционировало в реальном брежневском СССР, который моим молодым соратникам кажется безупречным, да и мне-то самому уже на фоне происходящего начинает казаться чуть ли не таковым. Я стряхиваю с себя этот морок и спрашиваю самого себя и тех, кто ориентируется на мои построения: «Мог ли этот СССР рухнуть, если бы был и впрямь безупречным?» Конечно, пример с приписыванием Марксу слов Даннинга не обнажает какой-то особой небезупречности той эпохи. Но что-то он приоткрывает. Даже не берусь сказать точно, что именно. Какое-то сочетание дежурных славословий в адрес Маркса как основоположника марксистско-коммунистической идеологии и — внутреннего безразличия к тому, что прославляется с дежурной неискренностью.
Под этим внутренним безразличием медленно зарождалось отвращение к тому, что дежурно прославляется. Накопление такого раздражения раньше или позже должно было взорвать прославляемое, причем заменив лживое прославление столь же лживой хулой. Так и произошло.
Но вернемся к тому, что нельзя назвать подлинной, освобожденной от начетничества марксистской теорией. Потому что марксизм — не теория. Или не только теория. Не зря ведь Ленин говорил об учении Маркса, а не о теории Маркса.
Христос принес в мир не теорию, а некое учение. Теория не порождает у тех, кто ее осваивает, страсти, веры, жертвенности, стремления к переустройству мира, сопряженному с насилием, с кровью.
А учение, неважно — Христа ли или антирелигиозно настроенного Маркса, порождает всё сразу: и гнев по поводу несправедливости мира, и страстное желание переустроить мир, сделав его справедливым, и готовность жертвовать собой во имя спасения человечества от несправедливости, и готовность в роли повивальной бабки обеспечивать кровавые роды Великой Новизны, проливая не только свою, но и чужую кровь.
Таково влияние великих учений, меняющих облик мира. Марксизм — одно из таких учений. Если забудем об этом и станем называть марксизм просто теорией — ничего в марксизме не поймем. Как ничего не понимают в нем гарвардские профессора, утверждающие, что относятся к марксизму с глубочайшим уважением, разделяют основные положения марксистской теории и так далее.
Гарвардские профессора, о которых я только что сказал, знают Маркса лучше, чем знали его самые дотошные начетчики от марксизма. Они знают Маркса несравненно лучше, чем тянущиеся к нему постсоветские варваризованные жертвы вопиющей несправедливости, она же — построение постсоветского якобы буржуазного общества. Но зная Маркса, что называется, от и до, уважая Маркса, восхищаясь им так, как физики восхищаются Ньютоном или Эйнштейном, гарвардские профессора ничего не понимают в Марксе.
В позднесоветскую эпоху был популярен диссидентский анекдот: «Мама, кто такой Карл Маркс? — Это, деточка, такой экономист. — Как наша тетя Сара? — Нет, тетя Сара — старший экономист». В отличие от мамы из анекдота, гарвардские профессора понимают, что Карл Маркс обладает статусом повыше любого старшего экономиста. Что он, может быть, экономист № 1, чья экономическая теория совершеннее всех других экономических теорий. Что открытые Марксом закономерности продолжают работать в условиях очень далеких от тех, которые Маркс мог наблюдать или даже предвидеть.
Чего же хотят такие гарвардские профессора, читающие Маркса в оригинале, знакомые с неопубликованной частью марксовского наследия? Они хотят, чтобы Маркс был теоретиком. Создателем экономической теории. Не только экономической? Что ж, признаем его создателем некоей социальной физики. Так называлось обществоведение в XVIII веке. Так назвал созданную им научную статистику бельгийский математик и социолог Адольф Кетле (1796–1874), так назвал социологию современник Кетле, родоначальник позитивизма, французский философ Огюст Конт (1798–1857), близкий друг одного из коммунистов-утопистов Сен-Симона, разошедшийся с ним по вопросу о сентиментальной, как говорил Конт, стороне религии. Притом что, по мнению Конта, новая религия должна быть строго позитивной (кстати, Конт считал себя первосвященником этой религии и активно выстраивал отношения с иезуитами, которым предлагал союз против протестантов).
Так вот, гарвардские профессора не возражали бы даже против рассмотрения Маркса как создателя новой всеобъемлющей теории общества, этакой позитивной социальной физики, этакого второго и резко улучшенного аналога Конта. Кстати, Конт был полубезумен, а Маркс был глубоко уравновешенным человеком. Конт претендовал на роль первосвященника новой позитивной религии, свободной от предшествующей религиозной сентиментальности, а Маркс на эту роль не претендовал.
Что же категорически отвергается гарвардскими профессорами — умными, образованными, блестяще знающими марксизм? То, что марксизм — это не теория, а учение.
В отличие от гарвардских профессоров, уже обсуждавшийся мною Карл Поппер отвергает марксизм даже как теорию. Для того чтобы отвергнуть марксизм подобным образом, Поппер должен отказаться от человеческой и научной добросовестности, должен опуститься до низкопробного интеллектуального мошенничества. Гарвардские профессора-марксисты намного порядочнее Поппера. Но Поппер улавливает в марксизме то, что гарвардские профессора отказываются улавливать, уподобляясь в этом своем якобы рациональном отказе фанатикам, восклицающим «чур меня».
Поппер улавливает то, что марксизм делает заявку не на теорию, а на новое учение. Поппер считает именно это наиболее опасной чертой марксизма. Поппер, в отличие от гарвардских профессоров, не чужд так называемой методологической проблематике. Да, он вынужден недобросовестно использовать методологию для того, чтобы дискредитировать Маркса даже как теоретика. Но это не значит, что Поппер полностью лишен методологического чутья, да и чутья собственно политического.
Для гарвардских профессоров улавливание методологических и политических эманаций, исходящих от того, что положено считать теорией, — это крамола, чреватая потерей бесконечно ими ценимого академического статуса. Отсюда — «чур меня».
Для Поппера улавливание этих эманаций не крамола, а профессия. Элита, запрещающая даже улавливать «это» профессорам, преподающим в созданных этой элитой университетах, позволяет улавливать «это» таким людям, как Поппер. То есть своим ставленникам, задачей которых является разгром опасных для элиты интеллектуальных веяний.
А какие веяния опасны для элиты? Только учения, способные породить страсть, побудить к борьбе. Теории всего этого породить не могут. Был бы Маркс только теоретиком — не возбудил бы марксизм революционной страсти в таких людях, как Ленин, Сталин, Дзержинский, Камо, Красин, Луначарский и другие. Но ведь марксизм возбудил эти страсти — таков неоспоримый исторический факт. А раз он их возбудил — то он был учением и остается учением. А значит, и может быть понят по-настоящему только в качестве такового.
Вот мы и подошли к главному — к отличию между учением и теорией. Обсуждать это отличие можно двумя способами.
Во-первых, через введенную базовую метафору, согласно которой диагност только ставит диагноз, а врач лечит заболевание. Если общество — это больной, то диагност должен сказать, что общество заболело болезнью под названием «капитализм». В принципе, он должен еще и описать это заболевание, сообщить о том, чем чревато его развитие.
Но если он только диагност, то он не должен это заболевание лечить. Более того, его диагностика не должна содержать в себе чего-то, что трудно описать, но что по своей сути является «установкой на переход от диагностики к лечению». Настоящая диагностика, она же — настоящая теория, должна быть стерильна, то есть на сто процентов избавлена от подобной установки. Диагност должен сам себе запретить заниматься чем-нибудь, кроме постановки диагноза. Напоминаю читателю, что «диагностика» и «лечение» используются здесь мною как составляющие базовой метафоры, а не как конкретные медицинские понятия. Поэтому прошу врачей и диагностов не обижаться по поводу данных моих рассуждений и не обсуждать степени их некорректности.
Как теоретик Маркс должен дать только диагностику капитализма и запретить себе даже думать о том, как можно лечить это социальное заболевание, и уж тем более — участвовать в этом лечении. Не потому, что это скомпрометирует в политическом плане, а потому, что это подорвет основы самодостаточного теоретического мышления. И теория окажется плохой.
С этой точки зрения соблазнительно было бы сказать, что Маркс — это диагност, а Ленин, Сталин и другие — лекари, опиравшиеся на марксистскую диагностику. Иначе говоря, революционеры-практики, опирающиеся на марксистскую теорию. Но в том-то и дело, что это не так.
Маркс тоже захотел быть не диагностом «в себе и для себя», а человеком, сочетающим диагностику с лечением, то бишь теорию с практической революционной деятельностью. А такое сочетание, читатель, штука очень... не знаю даже, как сказать... Едкая? Ядовитая?
Тут главное не конкретная характеристика этой самой штуки под названием «соединение социальной теории с революционной практикой», а то, что такая штука очень сильно преобразует мозг интеллектуала, занятого осмыслением того, что он воспринимает не как явление, а как зло. Не должен интеллектуал, создающий теорию, воспринимать свою предметную сферу как зло. Он не должен воспринимать так даже онкологию или проказу. И то, и другое, а также третье и так далее, интеллектуал, создающий теорию, должен воспринимать как интересное явление, как загадку, требующую разгадки. Только тогда интеллектуал становится теоретиком. Как только он заговаривает о зле — он уже не создатель теории, а создатель учения. И сколько бы в этом учении ни было ценнейшего теоретического содержания, оно уже никогда не станет теорией.
Хотелось бы, повторяю, чтобы Маркс выступал в роли чистого теоретика, а Ленин — в роли чистого практика. Но Маркс на самом деле — практикующий теоретик, а Ленин — теоретизирующий практик. Между тем практикующий теоретик — это не теоретик, а теоретизирующий практик — это не практик.
Ленин смог стать эффективным теоретизирующим практиком только потому, что он заразился от Маркса кощунственной гибридностью теории и практики. Сердце и мозг Ленина ужалила именно эта гибридность. И Ленин породил в качестве ответа свою гибридность. Эту гибридность или эти гибридности уловили миллионы и миллионы жертвенно настроенных людей. И, уловив, откликнулись жертвенно. Никогда бы они так не откликнулись ни на какую теорию. Им показали, как два в одном, и ужасность заболевания, и возможность его лечения. Ну они и стали лечить... Нравится ли это тебе читатель, или нет, но именно это называется Историей.
История — это определенный способ лечения человечества на основе учений, содержащих в себе два в одном: диагноз и рецептуру. Так лечили человечество Зороастр, Моисей, Христос, Будда, Магомет и другие. Но ровно так же — вплоть до деталей — лечили человечество Маркс и Ленин, считавшие Зороастра, Моисея, Христа, Будду, Магомета и других создателями реакционных иллюзий, отвлекающих человечество от его подлинного назначения...
Впрочем, каждый следующий религиозный учитель говорил о предыдущем примерно то же самое. Мол, я-то знаю подлинное назначение, а предшественник того... сбивает с толку, порождает иллюзии...
Ну что поделать — история движется таким образом... не только от телеги к паровозу (не хочу оспаривать важность и такого движения), но и от правды к правде, а значит, от учения к учению.
Предположим, что на все сто процентов именно переход от телеги к паровозу (от одного базиса к другому) порождает запрос на новое учение (то есть переход от одной надстройки к другой).
Мы вот сейчас к другому базису переходим, не так ли? Чем переход от телеги к паровозу отличается от перехода к новой компьютерной инфраструктуре, который происходит на наших глазах? Да только ли компьютеры меняют на наших глазах базис? Казалось бы, история должна взорваться и новым учением, и новой страстью. Но этого нет и в помине. Ведь факт, что этого нет. А что такое любое знание, игнорирующее факты, то бишь реальность? Это, читатель, вообще не знание, а его прямая противоположность — упертый фанатизм. Уж кем-кем, а фанатиками не были ни Ленин, ни Маркс. Да и были ли они такими уж категорическими ревнителями первичности базиса и вторичности надстройки?
Ленин-то уж точно по факту не был! Плеханов был таким ревнителем, а Ленин — нет. Потому-то Ленин создал великое государство, спасшее человечество от фашизма, а Плеханов ничего не создал и покинул историческую сцену, понимая, что ничего не создал. Или, что еще позорнее, создал некое «ничего».
Но не кажется ли тебе, читатель, что взяв на вооружение базовую метафору «диагностики и лечения», мы не можем ограничиться ее использованием для понимания сути марксизма.
Возьмем, к примеру, пресловутое второе начало термодинамики, оно же — закон об энтропии, об установлении термодинамического равновесия и так далее. Страсти, разгоревшиеся вокруг этого второго начала позволяют утверждать, что мы имеем дело с одним из самых драматических эпизодов в развитии естественнонаучной мысли. Это уже не условная социальная физика, это — настоящая физика.
Не хочу обсуждать здесь, чем классическая линейная термодинамика отличается от классической нелинейной термодинамики, а они обе — от неклассической квантовой нелинейной термодинамики.
Ограничусь констатацией того, что один из создателей этой самой термодинамики в ее казавшемся ранее завершенным, а ныне отвергаемом варианте, немецкий физик и математик Рудольф Клаузиус (1822–1888) выдвинул гипотезу о так называемой тепловой смерти Вселенной. Согласно этой гипотезе, Вселенная, будучи бесконечной и содержа в себе различные по температуре сегменты, должна рано или поздно прийти в окончательно равновесное состояние, оно же — состояние максимума энтропии. Этот вывод Клаузиус сделал в 1865 году, опираясь на второе начало термодинамики.
Тринадцатью годами ранее еще один создатель термодинамики, британский физик Уильям Томпсон, лорд Кельвин (1824–1907), заявил о том, что в силу второго закона термодинамики Земля должна спустя конечный промежуток времени остыть, то есть оказаться в состоянии, непригодном для обитания человека.
Клаузиус резко расширил вывод Томпсона, заявив о том, что не только Земля или Солнце, но и вся Вселенная должна умереть в силу неумолимого действия второго закона термодинамики.
Клаузиусу стали оппонировать многие. Например, выдающийся австрийский физик-теоретик Людвиг Больцман (1844–1906). Больцман в 1872 году выдвинул так называемую флуктуационную гипотезу. Согласно этой гипотезе, Вселенная случайно, в тех или иных местах выходит из равновесного состояния в силу так называемых флуктуаций.
Но дело не в том, как именно дискутировали между собой теоретики, а в том, являлась ли для них тепловая смерть Вселенной (а также смерть Земли, смерть Солнца и так далее), образно говоря, только диагнозом. Или же они тут же начинали ощущать себя лекарями, сражающимися с этим страшным заболеванием. Став лекарями, они переставали быть теоретиками. Тут, знаете ли, что обычная физика, что социальная — оскоромился лекарством и пиши пропало. «Коготок увяз, всей птичке пропасть».
Я уже знакомил читателя с произведением Леонида Андреева, в котором некий инженер, занимающийся революционной деятельностью, отвечает паникующему теоретику, восклицающему, что Солнце погаснет, что, мол, ничего страшного, зажжем новое.
А еще, между прочим, были инженеры-революционеры, такие, как Богданов. И они считали, что человечество разогреет Вселенную, взорвав себя ради новой совершенной жизни.
Я так часто оговариваю свою нелюбовь к Стругацким, что читатель может заподозрить меня в неискренности. Но я действительно не люблю Стругацких по самым разным причинам: как художественным (это откровенно слабые писатели), так и другим. Но это не значит, что я вообще игнорирую «фактор Стругацких» во всей его противоречивости.
Так вот, в 1976 году была опубликована фантастическая повесть братьев Стругацких. Эта повесть называлась «За миллиард лет до конца света». Ее герой, астрофизик Дмитрий Малянов борется не просто с тепловой смертью Вселенной, а с некоей гомеостатичностью мироздания. Гомеостатичность рассматривается как активная сила, обеспокоенная тем, что разум может развиться до таких масштабов, при которых окажется отменен второй закон термодинамики. Мироздание боится такого разворота событий, при котором человечество превратится в сверхцивилизацию. Мироздание защищается, создавая проблемы для тех представителей человечества, которые наиболее активно содействуют превращению человеческой цивилизации в сверхцивилизацию. Мироздание шантажирует таких особо творческих людей, угрожая их уничтожением, угрожая уничтожить их детей, и так далее. Кто-то уступает шантажу, а кто-то (догадавшийся о такой злокозненности мироздания Вечеровский) не уступает и вступает в борьбу аж с самим гомеостатическим Мирозданием. Является ли при этом Вечеровский теоретиком? Конечно же, нет. Он обнаружил некое заболевание как диагност, то есть теоретик. Но он тут же вступает в борьбу с этим заболеванием как лекарь. И он не обнаружил бы заболевания, если бы не мыслил, как лекарь. Так что такое наука вообще? Это диагностика? Или это изначальный симбиоз диагностики и лечения?
Есть одна наука — та, которую Поппер яростно сводит к чистой диагностике, или же внутри самой науки борются два методологических, нравственных и метафизических принципа? Существуют ли эти принципы, и если да, то что они собой представляют?
(Продолжение следует.)