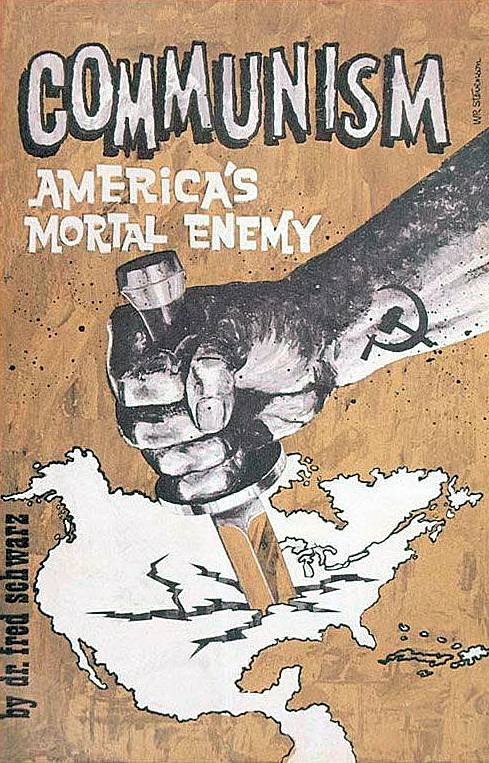Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» от 10 марта 2023 года
Анна Шафран: Сергей Ервандович, я предлагаю сегодня поговорить в контексте событий, которые разворачиваются вокруг нас, об армии как источнике идеологии служения. Мы с Вами понимаем, что та идеология, в парадигме которой мы существовали, уже окончательно ушла в прошлое. Невозможно на основании философии потребления, этого консьюмеризма, двигаться вперед и побеждать. Это не та идеология, которая позволяет государству выживать, воспроизводиться и, самое главное, побеждать — на отдаленную перспективу. А идеология служения — это как раз то самое начало, которое позволяет нам как цивилизации, каждый раз восставать из пепла и воспроизводиться. И как бы наши оппоненты ни старались искоренить в нас эти архетипы сознания, слава тебе господи, до сих пор им это не удалось. И сегодня, когда наша страна осуществляет спецоперацию, эта идея служения кем транслируется? Как раз теми людьми, которые непосредственно находятся на службе в прямом смысле этого слова. Как армии стать, если мы говорим именно об идеологии служения, еще и центром созидания, строительства новой России, показать тот самый пример, на который мы должны были бы равняться с философско-идеологической точки зрения? Я предлагаю сегодня на эту тему поговорить.
Сергей Кургинян: Да, действительно, мы всё понимаем, что специальная военная операция показала разные грани нашего общества. Очень разные, во многом контрастные. С одной стороны (был такой роман «Блеск и нищета куртизанок»), вопрос о том, какое у нас общество, о «блеске и нищете». Или как у Альфреда де Виньи — «Неволя и величие солдата».
Именно потому, что спецоперация очень сильно встряхнула всех, она показала как очень светлые грани нашего общества, так и противоположные. В частности, мы увидели настоящий подъем людей, которые хотят поддержать армию, которые заваливают воюющих гуманитарной помощью, пытаются сделать что-нибудь еще, проявляют определенную смелость, даже какие-то инновационные потенциалы. Общество живое, и насколько оно живое, в принципе показала именно спецоперация.
Она же показала неслыханные и очень похожие одновременно на то, что было раньше, случаи героизма солдат и офицеров. Показала примеры очень серьезной эффективности нашей армии в противостоянии не украинскому государству, как считалось, а фактически всей западной военно-производственной мощи. И не только военно-производственной, но и экономической и прочей. Очень много показано светлого, и если пытаться это осмыслить, то понятно только одно, что, как говорил когда-то Тарас Бульба, «есть еще порох в пороховницах, не ослабела еще козацкая сила».
Это, безусловно, так. Одновременно были показаны и совершенно мрачные стороны, и даже более мрачные, чем это кому-то казалось. Мы столкнулись с какими-то идеологическими инновациями, и даже метафизическими. Не случайно не только глава Русской православной церкви, но и президент России и некоторые из ближайших к нему фигур уже говорят на метафизическом языке о сатанизме нашего противника, о том, что идет война между добром и злом, что она носит фундаментальный характер. Сколько всего интересного мы обнаружили наряду с горем, несчастьями, пролитой кровью, огромной, по сравнению с тем, что было раньше.
Вот такая перед нами картина. Внутри этой картины мы хотели бы понять свое будущее. И это зависит от нескольких вещей, ибо будущее армии — я подчеркиваю первую главную позицию — всё равно связано с будущим страны.
Соотношение страны и армии — это очень существенный вопрос. Нельзя сказать, что какая страна, такая и армия. Страна может быть очень мирная и (не люблю это слово) «комфортная», но одновременно с этим может быть очень аскетичная и духоподъемная армия. Так тоже бывает. И я наблюдал это в некоторых странах мира.
Так вот. Во-первых, какая завтра нам нужна страна? А второе: какое место в этой стране займет армия? Это два связанных вопроса. И между ними достаточно сложное соотношение. Но мы никогда не сможем обсудить по-настоящему вопрос о будущем нашей страны, не ответив на крайне простой вопрос: что же произошло в 1991 году, мы проиграли холодную войну или нет?
Это же не для того нужно, чтобы посыпать голову пеплом. Пастернак говорил:
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.
Нет, не так. Мы же должны это отличать! Мы должны это отличать для того, чтобы наступать.
При каждой неудаче
Давать умейте сдачи.
Иначе вам удачи не видать!
Мы должны, если это неудача, давать сдачи.
Ни один проигрыш крупной спортивной команды не идет без разбора полетов, без выяснения, что же там произошло. С армией всё труднее, потому что слишком детальные разбирательства слишком многое раскрывают, не то, что нужно раскрывать. С другой стороны, мы существуем в информационно открытом обществе и всё равно что-то мусолится. Никогда не поймешь, насколько оно соответствует действительности, насколько выдумано, но всё равно обсуждение же идет. Мы не живем в эпоху газеты «Правда» и радиоточки. Мы живем в другую эпоху, и мы должны это учитывать.
Итак, всё-таки проиграли ли мы холодную войну?
Да, мы ее проиграли, причем проиграли сокрушительно. Отрицать это невозможно, потому что в противном случае — с какого бодуна мы отдали территории и почему теперь крохотные куски этих территорий мы такой большой кровью возвращаем назад? Это же факт. А проиграли мы очень много. Как я уже говорил, никакой Брест-Литовский мир не отдавал столько, и длился он 9 месяцев, а не 30 лет. Ну и как мы к этому относимся?
И разве главное то, что мы отдали территории? А население, а этот специально униженный статус русского населения на территориях, которые мы отдали? А высшие производительные силы, которые оказались разгромлены? А все эти конструкторские бюро? А армия — Советская армия? А советская медицина — Семашко и так далее?
С другой стороны, ведь не надо же говорить, что это всё ослепительно, замечательно, фантастично, блестяще и так далее. Там было много блеска, а было и много негатива. Не было бы его, не рассыпался бы Советский Союз. Главный аргумент в пользу его небезусловности — само это рассыпание.
Но тем не менее если мы проиграли холодную войну — а мы проиграли ее сокрушительно, — то каковы последствия этого проигрыша?
Во-первых, то, что нам навязана некая система бытия, существования (в существенной степени навязана) и она долго существует. Это первая причина.
Во-вторых, что внутри любого такого фундаментального проигрыша есть такое явление, которое называется посттравматический синдром, или посттравматический невроз. Точное название не важно. Специальное состояние посттравматическое — если считать поражение травмой, а это самая существенная травма, которая может быть. Это же касается всего: травма потери любимого человека, травма развода, травма увольнения с работы, если это очень важная работа. Всё же это порождает некие посттравматические психологические состояния, которые надо избывать.
Наиболее яркий пример такого посттравматического состояния — проигрыш американцев во Вьетнаме.
Они признали, что это был проигрыш и что этот проигрыш вовлек всю страну в некое посттравматическое состояние, нанес ей. Они же его, так или иначе признав, стали преодолевать.
Если человек не признаёт, что он травмирован, нельзя снимать последствия этой травмы. Человек говорит: «А я не травмирован». Ну и что делать дальше?
Мы знаем о героизме, который проявляется сейчас, о некоторых типах эффективности, которые сочетаются с типами неэффективности, но всё-таки, безусловно, существуют, о каких-то результатах, которые никак нельзя назвать чисто отрицательными. Смотрите, какая паника идет вокруг действий нашей армии в Артёмовске и в других местах. Она же идет. Видно, какая паника и какие вопли на Западе.
Очень много этого, но это же не вся правда, это одна из граней, которая обнажена. Другая грань заключается в том, что армия совершенно не готовилась к такой войне, что она оптимизировалась на тот же постсоветский манер, как и всё остальное, что внутри всех этих оптимизаций и было нечто, что было порождено самим поражением в холодной войне.
Это была армия после проигрыша в войне! Это была существенная демилитаризация — не Рейнской зоны, как когда-то было после Первой мировой войны, а сущностная демилитаризация. Запад, как и каждый оккупант, навязал нам некое бытие и пытается через это бытие уничтожить актив страны.
Его задача — уничтожение этого актива через наркотики, алкоголь, аморальность, разврат, цинизм, социальную атомизацию, депрессии, горячие точки, криминалку. Мало ли какими способами можно уничтожать актив, чтобы этот актив не повел за собой страну. И внутри этого всего было очень многое, навязанное армии, поскольку говорилось, что по итогам холодной войны мы будем строить нормальную страну и нормальную армию для нормальной страны.
А нормальная страна — это средняя западная страна с небольшими расходами на оборону, без всякого ожидания того, что она будет с кем-то воевать всерьез. Да, есть ядерное оружие. Да, честь и хвала тем, кто его удержал и даже обеспечивал некое развитие, но оно нужно на случай, если совсем сунутся, тогда мы огрызнемся и всё. А во всех остальных ситуациях мы будем строить нормальную армию для нормальной страны. И в этом выигрыш из поражения в холодной войне: мы нормализуемся.
А главный компонент этой нормализации — то, что мы существуем в большом мире как часть целого, в которое мы глубоко интегрированы, от которого мы можем что-то получать и которому мы можем что-то давать. Соответственно, международное разделение труда есть несомненная, безусловная часть этой нормализации.
А если идет нормализация, зачем нам — я не буду говорить автаркический (понятно, почему он не нужен) — зачем нам самодостаточный военно-промышленный комплекс? Зачем нам самодостаточная армия? В рамках этой вестернизирующей нормализации говорилось: «Конечно, лучше всего войти в НАТО, успокоиться там, и вообще под натовские стандарты всё изменить». Ну если даже этого сделать не можем, всё равно же нужно нормализовываться. Надо нормализовываться, потому что правда — где? Правда — там. То, что они делают, и нам надо делать. Просто потому, что они делают единственно правильное нечто. И это называется глобальный тренд.
Разве мы с вами не это слышали в момент, когда произошел с трудом остановленный триумф ювенальной юстиции? Что, все люди, которые про это вопили как резаные, все полностью изменили свою позицию? Да, они прикусили губу, замолчали, но они же остались. А что они говорили? Всё должно быть как у них.
В одном моем спектакле говорится, что советская переводчица, глядя на кофточку Клары Цеткин, сказала: «Шикарная, немецкая!» Разве подобного не было?
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
А разве с вакцинированием не было то же самое? Разве теперь уже все официальные инстанции мира не обнажают его нищету и двусмысленность? А разве когда-то нам не запрещала прокуратура говорить, что этот вирус искусственный, а теперь нет никого, кто это бы не говорил. Никого! Вскрывается, какой именно мухлёж осуществлялся в момент, когда запрещалось говорить о том, что он искусственный. Как это Фаучи делал, как это делали всякие «блэкроки» и прочие, которые на самом деле всё и скупили. Разве этого всего не было?
Мы двигались в этом тренде, и внутри этого тренда армии вменялось прозябание. Услышьте меня! Всем — и армии! — вменялось прозябание.
Да, дергались! Да, никогда не ложились уж совсем так, что будто — лечь и умереть. Да, всё время огрызались. А после Крыма — даже Осетии, Абхазии и Мюнхенской речи — стали огрызаться больше. Но ведь это были огрызания, это же не было признание того, что никакой этой нор-р-рмальной жизни, всего этого «нормалька» не будет, что будет либо великая страна, либо мертвая, как мы уже говорили.
А как перейти от прозябания к его альтернативе? Как это можно сделать, не избыв неявный, — как радиация, облучающая людей, — синдром поражения в войне, синдром навязанного прозябательного существования, синдром вот этого «не выпендривайся, будь попроще — к тебе потянутся люди» и так далее и тому подобное?
Как, если это всё не избыть, создавать — даже еще не страну, — а общество? Не власть даже, а общество менять? А ведь из этого общества рекрутируются военные: солдаты, офицеры, генералы. Они живут этой жизнью, по этим правилам, при всем их несовершенстве. Да, мы должны признать — и это отправная точка наших рассуждений, — когда люди умирают, они должны понимать за что. За деньги убивают, а умирают за что-то другое. Да, люди работают в армии и других структурах, связанных с риском, они должны существовать в системе служения.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, и всё-таки, как перейти от прозябания к его альтернативе, как Вы выразились? Давайте продолжим этот разговор.
Сергей Кургинян: Ныне покойный Леонид Шебаршин, которого я помню как руководителя первого Главного управления КГБ СССР, — блестящий человек, умница, очень обаятельный и способный. Он пытался в какой-то момент сказать, что главное — это профессионализм. Вот он профессионал, и этим всё сказано. Что ничего в добавление к этому «профессионал» не надо говорить. «Моя этика — профессионализм» и так далее. Когда я полемизировал с этим глубоко уважаемым мною человеком, я говорил: «Скажи мне, пожалуйста, чем по большому счету отличается спецслужбист от бандита?» Он ничем не отличается с точки зрения технологий, только лучше подготовлен: он лучше вскрывает сейфы (его дольше готовили), он профессиональней убивает и так далее. Это же не может быть этикой, это же не медицина — не клятва Гиппократа.
Спецслужбист от бандита отличается не профессией, а служением. Слу-же-ни-ем. Если нет служения, то все спецслужбы превращаются в большие корпорации бандитского типа. Наиболее жесткие, по сравнению с которыми все «коза ностры» или наши мафии отдыхают. Значит, если нет служения, нет ничего. И люди это угадывают. Вопреки любым попыткам создать эту нормальность и говорить: «Вы такие же, как натовские офицеры, вы должны быть скромнее. Дружите с нашими вчерашними противниками, облизывайтесь с ними и замените принцип разведки hate and love — ненависть и любовь — на чисто love».
Вопреки этому, всегда и во всех силовых институтах, и в армии прежде всего, было служение. Оно не могло быть уничтожено полностью. И если бы оно было уничтожено полностью, то не было бы сейчас никакого взятия Артёмовска и чего-нибудь еще. Всё бы было кончено.
И, несмотря на все бравады — «служу баблу» и так далее, — это же бравады героических людей, которые на самом деле прекрасно понимают, что ничто не окупает не только смерть, но и тяжелые раны, — ничто не окупает, кроме этого прямого, ясного опыта служения, то есть соприкосновения с чем-то большим, чем ты сам.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, ведь еще не так давно, буквально несколько месяцев назад, такие слова, как «служение» или «долг», «честь», «достоинство» — всё это считалось чем-то из прошлого, очень ретроградным, где-то даже поросшим мхом. И каждый раз, когда мы пытались говорить об этих понятиях, на нас некоторые смотрели с ироничной улыбкой. Мол, ну вы уже придите в себя, совершенно иная жизнь, XXI век на дворе, давайте конструктивно общаться. Вот именно «конструктивно» и давайте какие-то практические вопросы решать и действовать из соображений целесообразности. Теперь вдруг стало понятно, что идея служения как была, так и остается центральной, поскольку мы мыслим себя именно как мощная держава и как мощная цивилизация.
Служение, которое всё-таки осталось в крови русского человека, было отправлено куда-то в задний угол. Как реабилитировать это понятие, восстановить его в правах? И что здесь можно сделать, так чтобы продвинуться вперед?
Сергей Кургинян: Смотрите, Вы же уже сами говорите — реабилитировать. Значит, это посттравматическое состояние, преодоление неких травм и их последствий? Но это же тридцать лет делалось! Тридцать лет говорилось, что главное — это прозябание, что выёживаться нельзя, что адресации к идеализму — любому, хоть бы и к православному, хоть к исламскому, — это всё одинаковый «совок», ужас, кошмар, атавизм, архаизм, реликт чего-то, канувшего в прошлое. Что жизнь строится совершенно иначе, что никакого братства нет, что сплоченность, солидарность — это всё тоже от лукавого.
Это же всё не могло не въесться в плоть и кровь поколений. И мы видим на одной грани бытия идеализм, а на другой мы видим бегство от всяких мобилизаций. А на третьей мы видим скрежетание зубами и ненависть. А на четвертой — просто изумление: «Что это такое, с какого сука вы сорвались? И что это вы такое теперь начинаете вытворять?» А на пятой: «Да ладно, потерпим еще, пусть они сколько-то времени про это поболтают, придется сколько-то воевать и потом мир заключим, и надо будет прийти снова к такой проамериканской жизни».
Мало ли других граней, которые не исчезли. Они как бы затаились. Не происходит ничто «по щучьему велению, по моему хотению», по прикосновению волшебной палочки — в один момент, когда происходит событие. Начинаются сложные многообразные переходные процессы в системе, сообразно тому, чем система была до момента, когда по ней так долбанули специальной военной операцией. А она находилась в очень пагубном состоянии. Где-то эта пагубность усиливается, где-то — нет.
Возникают очевидные примеры массового героизма, и никоим образом нельзя сказать, что их являет нам только рядовая масса, а вверху там всё сплошной ужас и кошмар. Но ведь там и не благолепие. Там то, что унаследовано от тридцати лет! Есть же наследство этих тридцати лет стяжательства, прозябания, цинизма, предельного прагматизма, — всего того, что никак не отвечает сегодняшним ожиданиям страны. И от того, что заговорили на этом языке — честь и хвала всем, кто на нем говорит, — даже если то, что говорят, вызывает у меня некое изумление, и я спрашиваю, раз всё так хорошо, то… выражаясь метафорически, «если он нафиг такой умный, почему он нафиг такой мертвый?»
Даже за это спасибо — что хоть это говорят, а не хают. Спасибо, что какие-то законы принимают, по которым хаять нельзя. Делать нам сейчас больше нечего, как разбираться, кто у нас там какой. Мы воюем — и всё.
Но это «необходимо, но недостаточно», как говорят математики. К этому всё не сводится, ибо представим себе, что какие-то сегменты сегодняшней реальности остались в их прежнем прозябательном состоянии, нор-р-рмальном для прозябательства. Как они ведут себя тогда?
В той прозябательской криминальной реальности, которая была порождена желанием за пять лет построить капитализм без первоначального легального накопления, а значит — с нелегальным, значит, она криминальная, да? В той вальпургиевой ночи, где говорилось, что всё продается и покупается, посты тоже продавались и покупались. Ну, предположим, не все, но какие-то продавались и покупались, ну мы же это все видим. Если какие-то продавались и покупались, в том числе в армии, то представляете, какое глубокое изумление вызывает специальная военная операция?
Во-первых, потому, что не для того покупали. Во-вторых, потому, что не понимаем, как воевать. И, в-третьих, даже если приходим в зону военных действий, то ищем, где заняться стяжательством и отбить, и как сохраниться.
Я же не говорю, что всё такое! Было бы всё такое — да нас бы уже не было. Но это же не значит, что такое не декларировалось как чуть ли не нормальное, правильное, прагматичное, циничное. Оно же осталось, правильно? Оно осталось в армии, где сама природа военной деятельности очищала огнем какую-то часть служилого сословия. Выходишь — пули начинают свистеть, и понимаешь вдруг, что либо ты тварь полная, трусливая — и отползаешь в сторону, либо какой-то дух должен подняться. Какой-то кураж нужен. И это не простой кураж бандита — повторяю, за деньги убивают, но не умирают. И в этом смысле там, где была необходимость рисковать жизнью — там чище! И это «там» называется армией. И сколько бы в ней гнили ни было, там всё равно чище.
Но гниль-то тоже есть. Как ее отчистить, не разрушив всё к чертям собачьим? Это первое. Как обнаружить эту драгоценность, эту чистоту, как ориентироваться окончательно всей страной на то, что чистота и нужна, во что эту чистоту превратить, какой опыт здесь надо использовать, как соединить разные типы опыта и сопрягать их с нашей жизнью, как переделывать эту армию, и нужно ли ее переделывать в той ситуации, когда слова «перестройка», «перестраивать», вызывают только рвотную реакцию и ничего больше?
И я прекрасно понимаю, что и президент России, и вся наша высшая бюрократия — в той ее части, в которой они патриотичны, — просто боятся этого слова. И принцип простой: вмешиваешься, а оно рухнет. Только этого еще не хватало: еще разок порывисто вмешаешься с благими намерениями, а выстроишь дорогу в ад.
Конечно, тут нужно быть крайне бережными. Но всё-таки, что делать?
Во-первых, признать, что эта эпоха «нормальности» — позади.
Второе. Признать, что какие-то сегменты военного сословия всегда чище, чем всё остальное.
И что, например, тот же Израиль, который хочет, чтобы бюрократия была патриотичная, он через эти военные каналы вертикальной мобильности пропускает всю бюрократию и попробуй, устройся на какой-нибудь крупный пост, если ты в спецназе не служил или в летчиках или где еще. Это тоже уходит: Израиль постепенно становится потребительским государством, «нормальным», но не до конца. А я помню, в какие-нибудь 1990-е даже, и уж тем более в 1980-е, это очень с придыханием все делалось. Почему? Потому что опасность была большая. Потому что эти люди были нужны. Потому что даже если «как надену портупею, так тупею и тупею» — а так не всегда отнюдь, — то всё равно лучше, чем предатель, трус и стяжатель.
А там, где-то на этом огне, всё это уходит, выжигается, это алхимия такая, которая существует не во всем сословии, но в существенной его части.
Как этому дать ход? На что тут ориентироваться? Какие стандарты использовать и кто это будет делать? Кто этот проектант новой армии? Сама армия? Ее элитные стратегические институты? Кто это будет проектировать?! Сколько этих сценариев? Кто ими по-настоящему заинтересован в условиях, когда рутинная работа огромна, и сейчас просто вертятся эти шестерни текущей деятельности, и функциональность полностью заменила собой развитие? А развитие приобрело узкопрагматический характер: чуть побольше снарядов и так далее? Кто этим будет заниматься? По какой модели?
В чем я вижу определенную ущербность существующей у нас реальности по отношению к тому Западу, который мы якобы копировали? Мы же его по-настоящему не копировали. Потому что нам навязывались ущербные копии. Прошу прощения, кастрированные, стерилизованные, не содержащие в себе главные элементы, которые есть у стран господства. Если рассмотреть это, то что мы видим? А мы видим, что по-настоящему ценные профессионалы, возвращаясь к профессиональности, из армии не уходят никогда. Они уходят прямо почетным образом на кладбище. Точка.
Они не уходят, нет понятия «пенсия». А есть понятие перехода с бюрократическо-государственной службы — военной или другой — в какой-то частный сектор, потом назад, потом обратно, и это всё время циркулирует. И не на уровне отдельных, скажем так, служебных подразделений, таких как частная армия. А на уровне think tank’ов (интеллектуальных центров), института наставничества, бережного отношения к опыту. Не должен уходить в небытие человек, с отличием окончивший Академию Генерального штаба!
Дальше вопрос социальности. Вопрос же не в том, чтобы залить деньгами и разжечь аппетиты. Аппетит же приходит во время еды. Вопрос заключается в том, чтобы вывести из полумаргинального состояния, в котором этот аппетит нужен просто для того, чтобы каким-то способом, знаете ли, семью кормить.
У меня есть близкий знакомый, прошедший спецназ ГРУ, окончивший Военную академию имени Фрунзе, Академию Генерального штаба, защитивший диссертацию, написавший книги и так далее, который ушел из армии, потому что он жил в чудовищных условиях, а ему надо было, в конце концов, каким-то способом детей вырастить, социализовать. Но так же не ведут себя с людьми, которые представляют колоссальную нематериальную ценность! Колоссальную!
Если вы не готовились к крупной войне, основанной на взаимодействии родов войск, то надо вернуться к тем профессионалам, которых еще учили этому, как основному в той же Академии Генерального штаба, пока кто-то не стал отменять это. Они драгоценны! Их надо соединить для помощи армии! Под ее контролем надо соединить таким способом, чтобы не боялась их действующая бюрократия, не видела в них конкурентов, а могла каждую крупицу этого опыта использовать для стратегического обновления.
Если мы хотим создать другое сословие и опереться на это сословие, а мы, наверное, всё-таки хотим этого, то не может быть, чтобы у представителей ядра этого сословия не было очень хороших квартир, дач и чего-то еще. У них может не быть яхт. И даже не должно быть этих яхт. Но это-то у них должно быть! Они должны ощущать себя:
а) абсолютно социально защищенными,
б) вечными (forever)! Они приходят на службу в сословие навечно, они из него не уходят, они становятся наставниками, учителями, интеллектуалами, они доучиваются и возвращаются, это вот такая вот сложная циркуляция.
Тогда постепенно можно, инвентаризировав имеющееся, хотя бы создать субъект будущих изменений.
Анна Шафран: Сергей Ервандович, мы говорим о том самом новом сословии, которое бы реализовывало идею служения. Мы сейчас рассуждаем о том, как на основании армии, вот этих кадров специальных служб могло бы быть выковано это новое сословие. С тем, чтобы запустить новый проект и новую Россию в это будущее наше желанное — ближайшее, отдаленное.
Если мы понимаем, что этот новый проект нам так необходим, если мы понимаем, что это новое сословие вновь должно быть создано, то каким образом это может быть реализовано?
Иными словами, этот импульс, он должен быть задан специально и кем-то? Или это более стихийный процесс: в тот момент, когда мы, рефлексируя над происходящим, делая выводы, двигаясь каждый в своем направлении, но видя общую цель? Каким образом этот процесс должен быть и может быть сформирован, с Вашей точки зрения?
Сергей Кургинян: Я не считаю, что опыт опричнины Ивана Грозного удачный, она сорвалась. А вот опыт Петра Великого с его Преображенским и Семеновским полками, конечно, удачнее. Но ведь никто не говорит, что Петр не просто взял каких-то молодых пацанов и сделал из них новую элиту. Он же соединил их с верхушкой Боярской думы. Кто такой Ромодановский и прочие? Там же произошло какое-то сращивание.
Петр был очень умен и не настолько наивен, чтобы считать, что он на пацанов обопрется и государство удержит. И петровский опыт при всей его относительности и при всех огромных издержках, конечно, в целом гораздо удачнее опыта Ивана Грозного, который тоже добился очень и очень многого, но не настолько.
О чем этот разговор? О том, что каждый раз, когда идут очень мощные изменения, нужен субъект. Я не к тому, чтобы возвеличивать Ленина. Я знаю, что люди относятся к нему по-разному. Я его уважаю, кто-то нет, — а я уважаю и тех, кто не уважает. Для меня сейчас, в условиях войны, такие идеологические размежевания невозможны. Но я хочу объяснить, что он был блестяще умен, очень умен и талантлив. Он был русским дворянином и в гимназии лучшие оценки имел по Закону Божьему и по классической, то есть древней, литературе. Он был филологом, он был совсем не простым человеком. Не надо его сначала идеализировать, а потом демонизировать, надо видеть личность.
Так вот, мне все говорят: «Ленин такой был умный, он всё время говорил, что делать, а вы ходите вокруг да около». Я говорю: «А вы читали книгу «Что делать?» Он ни слова там не говорит о том, что делать, ни слова! Он говорит о том, кто будет делать — партия нового типа: «Дайте нам профессиональную организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» Он говорит только о субъекте! У нас каждый раз, когда обсуждают изменения, не говорят о субъекте, это как будто запрещено. «Что делать, вот скажите? А вот это? А это? Мероприятия, протоколы?» А кто это будет делать? Где здесь стратегия? Это по поводу соотношения «кто» и «что».
А другое, это я уже говорил, как гениально с точки зрения художественной описывает Маяковский партийные процессы. Он начинает, почти копируя Блока:
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым…
А потом вдруг добавляет:
прибирала партия к рукам… —
На языке местечка и ростовщичества, и он это соединяет.
Кто будет «прибирать к рукам» драгоценные элементы проснувшегося? Сколько военных сейчас, у которых комок в горле, которые видят многие несовершенства, — может быть, правильно, а может, ошибочно — и хотят только победы, кричат криком. Мы их будем доводить до инфаркта или мы будем «прибирать их к рукам»? Сколько всего «можно прибрать к рукам», кто это должен сделать и что тут надо помнить из великого опыта мира?
Знаете, как Дантон отвечал на вопрос, что нужно для победы? «Смелость, смелость и еще раз смелость». Где эта смелость?! Эта бюрократическая осторожность будет сочетаться со смелостью и решительностью? Будут построены отдельно элементы функционирования и развития? Возникнет пространство смелых, рискованных экспериментов и попытки эту новизну и эти проснувшиеся импульсы уловить, как нечто абсолютно драгоценное? Возникнет ли, кроме энтропии, термодинамических процессов, которые и хороши, и плохи одновременно, негэнтропийный процесс, или, как говорил великий физик Максвелл, «демон Максвелла», который будет открывать заслонку и пропускать горячие частицы в одну сторону, а холодные — в другую?
Возникнет ли что-то кроме этой термодинамики проснувшихся людей, которые большим валом входят в прежнюю действительность, оказываются в конфронтации, отбрасываются и так далее? Так стратегически нельзя победить. Победить можно, только увидев всё это, собрав в мозгу большую картину, испугавшись возможных негативов, а потом сказав, что глаза боятся, а руки делают, начать работать. Тогда будет новая армия, новое ядро нового общества, и, возможно, оно будет в тысячу раз успешнее, чем то, что есть сейчас, но одновременно оно будет находиться по ту сторону успешности — на территории блага, счастья, подлинности бытия.